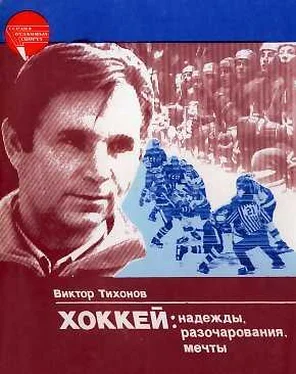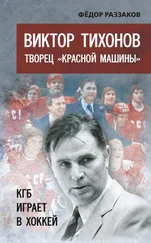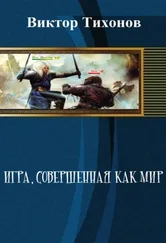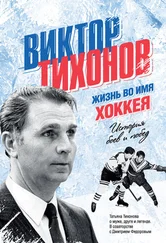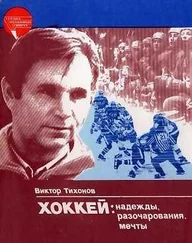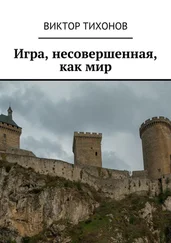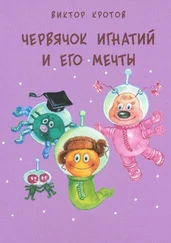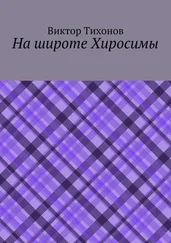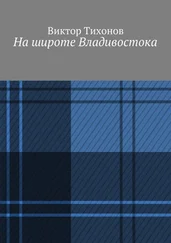Размышляю об этом, с интересом читаю, что пишут тренеры, специалисты, работающие в других областях.
Крупнейший советский хирург, лауреат Ленинской премии Николай Михайлович Амосов – один из самых интересных для меня авторов. В журнале «Наука и жизнь» летом 1983 года публиковались отрывки из его новой книги. Это «Книга о счастье и несчастьях».
Сделал такую выписку:
«Руководитель крупной хирургической клиники – всегда диктатор. Если он размазня, то и клиники нет. Единоначалие и дисциплина, как на войне.
Поэтому я могу объективно критиковать подчиненных и выставлять им всякие баллы. Если мой тон категоричен, то никто и не возразит. Пошепчутся, понегодуют – и все. И о смерти своего больного могу сказать: болезнь или помощники виноваты. Но беда в том, что я вполне могу остаться, в убеждении, что все правильно, а я такой хороший. Природа человеческая коварна. Важно не пропустить опасной границы.
Поэтому кроме честной самокритики (критики снизу ожидать нельзя) заведен у меня еще один метод контроля.
Он называется примитивно. «Голосование». Прямое, тайное и равное.
Суть вот в чем. Аня, мой секретарь, печатает бюллетени. В столбце перечислены заведующие отделениями и лабораториями, всего двенадцать. Нужно оценить их соответствие с должностью, «по личным качествам» и «по рабочим». Против каждой фамилии голосующий может поставить оценку: «да» (значит «плюс»), «нет» («минус») и «ноль» («не знаю», «не могу оценить»).
На утренней конференции без предупреждения раздают бюллетени всем врачам и научным сотрудникам, их у нас около семидесяти. Объясняю правила процедуры.
– Тайна гарантируется. Результаты объявляться не будут. Каждый заинтересованный может подойти ко мне и спросить, как его оцепили. Если хочет.
Проголосовать нужно в течение дня, обдумывать не спеша. Ящик, заклеенный пластырем, стоит в приемной.
Каждый раз я с трепетом перебираю листочки и считаю свои плюсы, минусы и нули… И первый, и второй, и третий годы.
До сих пор каждый раз вздыхал с облегчением: пронесло!
В самом деле, у меня устойчивые хорошие показатели. По деловым качествам – два-три минуса, по личным – пятъ-семь. Пять или десять процентов осуждающих или даже ненавидящих – это совсем немного. Учтите мое диктаторское положение: требовать без всяких скидок и не всегда деликатно. Очень рекомендую голосование всем руководителям. Надежная обратная связь. И безопасная: можно умолчать о результатах.)»
Но это – опыт врача.
А что считают тренеры?
Ханс Меркель из ФРГ, работавший с разными европейскими клубами, утверждает: «Тренер всегда прав».
Энцо Беарзот, наставник сборной Италии, выигравшей в 1982 году чемпионат мира по футболу, говорит, что разговаривать с игроками следует на их языке: с интеллигентными – интеллигентно, с примитивными – примитивно.
Определил для себя линию отношений с командой, с игроками. Руководство должно быть жестким, но подразумеваю при этом внимательнейшее отношение к каждому хоккеисту, к каждому члену нашего коллектива. Равные и ровные отношения со всеми: заслуги и титулы чемпионов здесь ни при чем. Ни в коем случае не заискивать перед лидерами, – это ведет к обоюдному поражению: и ведущих мастеров, и тренера.
А думаю ли я о том, что ветераны ЦСКА должны стать тренерами? Ведь ради приобщения ветеранов к труду спортивного наставника и была изобретена должность играющего тренера.
Но если в семье два инженера, настаивают ли родители на том, чтобы их сын или дочь тоже непременно стали инженерами? А не пианистом, врачом, военнослужащим? Так же и в хоккее. Если кто-то заинтересуется моим делом, то, честное слово, расскажу все, что знаю, покажу все, что умею. Никаких тайн не будет, ничего не утаю. Но вводить должность играющего тренера… Первоклассная команда – не учебный класс для начинающего тренера, пусть даже и был он выдающимся спортсменом.
Опыт у ведущих хоккеистов, игравших на олимпийских играх, чемпионатах мира, с профессионалами, громадный. Им есть что передать молодым. Но хотят ли они этого? Сумеют ли?
И главное, есть ли у них призвание к тренерской работе?
Не знаю, не знаю.
Что определяет призвание человека? Окружающая обстановка? Обстоятельства? Семейные традиции? Мечта?
У каждого, наверное, есть – по крайней мере, должна быть – мечта. Так зачем же навязывать молодому человеку будущее? Навязывать судьбу? Имею ли я на это право?
Читать дальше