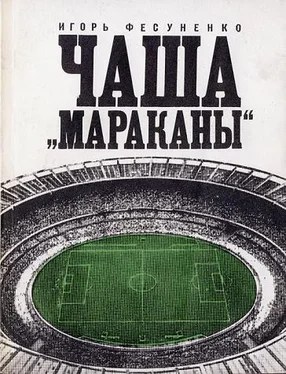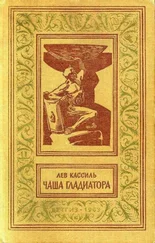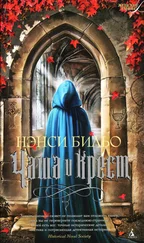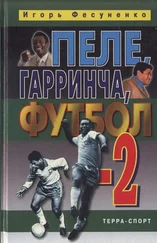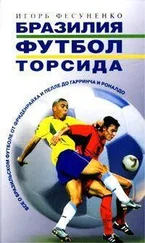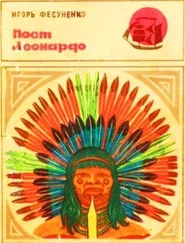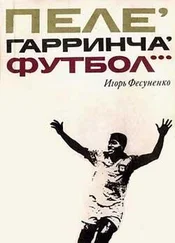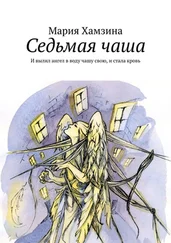Диди был диспетчером команды. Сказав это, я слышу разочарованные вздохи: «Ну и что? Подумаешь, диспетчер! В каждой команде есть диспетчер!»
Увы, не в каждой. И если есть, то далеко не всегда такой, как Диди. И дело не в индивидуальном мастерстве этого футболиста. Не в его знаменитом «сухом листе», не в умении послать мяч через все поле в самую опасную для противника точку поля, где назревает самое острое развитие атаки! Диди был не просто диспетчером, распределяющим мячи, организующим игру своей команды. Он был (не являясь капитаном!) единодушно признанным и неоспоримым лидером команды, сплавляющим в единый порыв одиннадцать разных темпераментов, настроений, характеров, индивидуальностей. А ведь, заметим мимоходом, в бразильском футболе добиться такого «сплава» гораздо труднее, чем в любом другом: бразильские футболисты обладают куда более ярко выраженными игровыми индивидуальностями, да еще плюс к этому нервным, легко воспламеняющимся темпераментом.
Эту роль, эту функцию Диди не получил от тренера. Да ее невозможно «дать» или «получить» комуто. Он стал «диспетчером», лидером сборной команды с той же естественностью, с какой играл эту роль сначала во «Флуминенсе», а затем в «Ботафого», в знаменитом «Ботафого» «образца 1956-1958 годов», где рядом с ним играли Нилтон Сантос и Гарринча, а тренером был Жоао Салданья.
Появление Диди, а точнее говоря, появление в бразильских командах игроков-лидеров, игроков-диспетчеров, лучшим из которых являлся Диди, и ознаменовало рождение нового бразильского футбола. Явилось его не менее важной находкой, чем воспетая в стихах и прозе математическая формула 4-2-4.
И было связано неразрывными узами с рождением этой формулы, этой тактической схемы. Появление на поле четырех защитников (вместо прежних трех) и четырех нападающих (вместо пяти – по прежней схеме «дубль-ве») означало не механическое перераспределение игроков внутри поля, а появление новых функций в футболе, новой системы игры не только команды в целом, но и каждого игрока в отдельности. Эти четыре защитника стали отныне ИНЫМИ защитниками. Они стали «держать» не определенных игроков противника, как это было раньше (левый крайний защитник «держит» правого крайнего нападающего), а свою зону, свой участок поля, и, следовательно, игрока противника, появляющегося в этой зоне. Футбольное поле, оставаясь прежним по размерам и разметке, вдруг обрело новые свойства, обнаружило неожиданно богатые золотоносные жилы, которые были скрыты от нелюбопытного глаза и которые можно было разрабатывать в течение долгих последующих лет.
Итак, игроки получали функции и задачи новые, но всегда конкретные. А «диспетчер» Диди стал выполнять весьма необычную для традиционного футбола функцию «свободного охотника»: он не имел ни определенного игрока противника, которого он должен был «держать», ни четко очерченного участка поля, на котором он должен был играть. Он стал этаким вольным художником, который на первый взгляд делал на поле то, что ему вздумается. В общем-то, так, пожалуй, оно и было: Диди и должен был играть так, как ему вздумается, в рамках, разумеется, разработанной тренером идеи, рисунка игры. Он должен был контролировать, в основном, среднюю зону поля, и его главной задачей был «свободный поиск» наиболее выгодных «продолжений» (выражаясь шахматным языком) как в обороне, так и в атаке. Само собою разумеется, что такую роль мог выполнять только игрок, обладающий не только высокой индивидуальной техникой, но и умением видеть поле, математическим пасом, выносливостью, авторитетом и, самое главное, творческим игровым мышлением. Четкая схема 4-2-4, расчертившая взаимосвязи игроков с пунктуальностью reoдезического планшета (вспомним, что даже мятежный, бунтарский Гарринча занимался своей черной магией в сравнительно узком «коридоре» поля), получила в лице Диди то самое «чуть-чуть», тот самый завершающий мазок, который превращает застывший холодный пейзаж во вдохновенную симфонию красок.
Диди стал мозгом команды, ее «компьютером», он играл так, как этого требовала ситуация, и менял ситуацию так, как это ему казалось нужным. Неожиданным пасом он мог перевести игру от своих ворот к штрафной площадке противника, бросая в прорыв Вава или Пеле, выводя по флангам Гарринчу или Загало. «Сухой лист» щедро использовался им не только для забивания фантастических голов, но и для пасов – иррациональных, сводящих защитников с ума, повергающих соперников в смятение и вызывающих на трибунах такую же буйную реакцию, как и веселые демонические финты Манэ Гарринчи.
Читать дальше