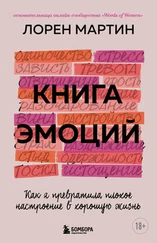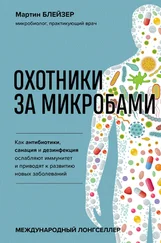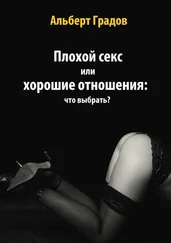У нее глубокие корни в эволюции. У первого примитивного предка млекопитающих был одиночный желудок, который заложил шаблон для всех остальных. Мыши, обезьяны, зебры и дельфины разошлись в разных эволюционных направлениях, разошлись и желудки – они выделяют разную кислоту, имеют разный состав слизи, где обитают разные микробы. Сегодня мы нашли немало видов Helicobacter – в животных: H. suis – в свиньях, H. acinonyx в гепардах, H. cetorum – в дельфинах, H. pylori – в людях.
Из генетических исследований мы знаем, что люди носят в себе H. pylori не менее 100 000 лет – дальше заглянуть пока просто не можем из-за отсутствия необходимых методов. Можно предположить, что микроб жил в нас с самого зарождения вида Homo sapiens около 200 000 лет назад в Африке. Это явно долгосрочные отношения, а не свидание на одну ночь.
Кроме того, генетический анализ говорит, что все современные популяции H. pylori происходят от пяти древних популяций: двух – из Африки, двух – из Евразии и еще одной – из Восточной Азии. Мы можем отследить передвижения вместе с миграцией населения по миру – организм, этот невидимый пассажир, переносился в желудках. Исследования моей лаборатории показывают, что когда люди около 11 000 лет назад пересекли Берингов пролив и проникли в Новый Свет, в них была восточноазиатская версия. Сейчас в прибрежных городах Южной Америки доминирует европейский штамм – результат смешения рас после прибытия испанцев. Но чистые восточноазиатские штаммы по-прежнему находят у южноамериканских индейцев, живущих в глубине джунглей и на высокогорьях {105}.
До недавнего времени H. pylori колонизировала почти всех детей на начальных жизненных этапах, формируя иммунный ответ желудка такими способами, которые выгодны и микробу, и ребенку. Обосновавшись в организме, микроорганизмы демонстрируют поразительную стойкость. Многие другие микробы, с которыми мы контактируем, например, изо рта собаки или из йогурта, и вирусы, вызывающие простуду, не настолько стойки. Они проходят сквозь нас, не задерживаясь надолго. Но H. pylori создала для себя стратегию выживания даже на случай, если часть колонии выносит из тела перистальтикой. Это движение, которое проталкивает слизь, еду и отходы жизнедеятельности по пищеварительному тракту и выводит их из организма. H. pylori умеет плавать и достаточно быстро размножаться, чтобы поддерживать численность в течение большей части жизни человека. Тысячелетиями бактерия успешно сопротивлялась любым атакам и до недавнего времени абсолютно доминировала в желудке. Но ничто не могло подготовить H. pylori к XX веку, к которому относится большая часть моей истории. Впрочем, для начала вернемся чуть назад.
* * *
В XIX веке первые патологи использовали микроскопы, чтобы сравнить нормальные и ненормальные ткани больных людей – с этого началась медицинская дисциплина патология. Врачи сразу же увидели разницу. Нормальные ткани были обычной формы, очень симметричные – идеально ровные ряды клеток. Но вот в зараженных, например, в ранах, воспаленных суставах и распухших аппендиксах, наблюдались белые кровяные тельца, из которых иногда формировались целые листы, похожие с виду на бесконечную армию солдат. В других случаях они формировали границу вокруг гнойника, содержавшего остатки тканей, уничтоженных в битве между белыми кровяными тельцами и патогеном.
Подобные вторжения, которые мы называем воспалениями, коррелируют с распуханием, покраснением, жаром и повышенной чувствительностью, которые ощущаются при инфекции или артрите. Иногда воспаление очень большое, как например, при абсцессе. В других случаях малозаметное, как, например, в мышцах, которые болят на следующий день после серьезной тренировки.
Эти же первые патологи и клиницисты заглянули и в желудок, где практически у всех увидели огромное количество бактерий, изогнутых подобно запятым или свернутых в S-образные спирали. Но они требовали своеобразных условий для роста, их не получалось изолировать в культурах, которые микробиологи обычно используют в чашках Петри. Поскольку эти организмы не удавалось вырастить в лабораториях, в отличие от многих других микробов желудочно-кишечного тракта, не получалось и идентифицировать, из-за чего их игнорировали и считали обычными комменсалами, которые есть у всех. После чего и вовсе забыли.
Через несколько десятилетий медиков стали учить, что желудок стерилен и полностью свободен от бактерий. Конечно, нужно было найти причину, по которой в органе, расположенном по соседству с богатым микроорганизмами кишечником, их нет. Совершенно забыв о странных изогнутых микробах, профессоры придумали причину. Поскольку желудочный сок – примерно такая же сильная кислота, как из автомобильного аккумулятора, напрашивался логичный вывод: в такой среде ничего не может жить. Тогда взгляды на микромир были ограниченными; мы даже не представляли, что бактерии могут жить и процветать в вулканах, горячих источниках, граните, глубоководных гейзерах и на соляных равнинах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
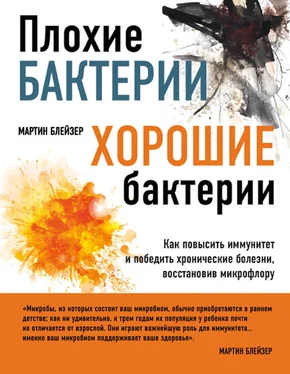
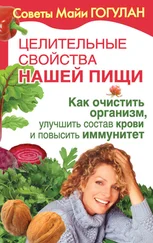
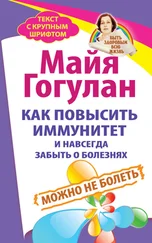
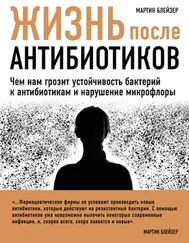
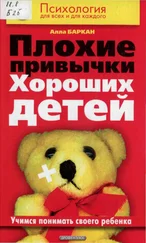
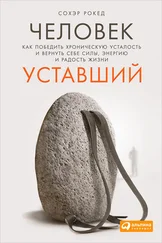
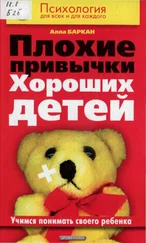
![Мартин Блейзер - Охотники за микробами. Как антибиотики, санация и дезинфекция ослабляют иммунитет и приводят к развитию новых заболеваний [litres]](/books/429953/martin-blejzer-ohotniki-za-mikrobami-kak-antibiot-thumb.webp)