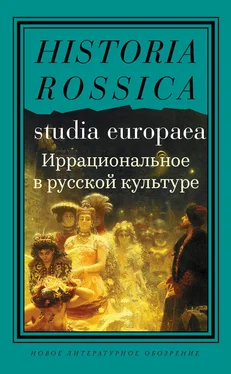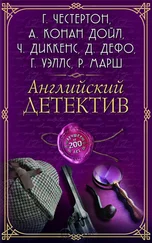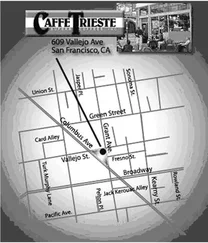Несмотря на то что не всегда можно выяснить мотивацию визионера, почти во всех известных случаях видение получало огласку именно из-за социальной значимости, которую ясновидец придавал своему опыту. По словам Е.К. Ромодановской, «без объявления народу видение не имеет общественной значимости и превращается в личное дело человека, в бытовое сновидение» 109 109 Ромодановская Е.К. Рассказы сибирских крестьян о видениях (к вопросу о специфике жанра видений) // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XLIX. СПб., 1996, 151.
. В традиционных видениях общественная значимость настойчиво подчеркивается в структуре самого опыта: Богородица, ангелы или святые требуют от ясновидца, чтобы тот сообщил о переданном ему опыте «народу», в случае неповиновения ясновидца ждет наказание (обычно болезнь, которая проходит, как только задание выполнено). Часто именно это требование, предъявляемое к ясновидцу, ведет к возникновению социального процесса (и как результат дает историку материал для исследования). Ведет оно и к расширению сакрального пространства: распространению информации о видении в окружающей визионера социальной среде, вмешательству церковных и/или светских властей, действиям, направленным или на визионера, или на объект почитания, указанный в видении (икона, мощи святого), или на часть ландшафта, с которой связано явление.
РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА АНУФРИЯ КРАЙНЕВА КАК ПРИМЕР ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ К СПОНТАННЫМ ВИДЕНИЯМ В 1850-Е ГОДЫ
Отношение церкви к (сно)видениям в XIX веке, несмотря на отказ от политики борьбы с суевериями, превалирующий в XVIII веке, оставалось двойственным ввиду существования двух «соперничающих теологий откровения» 110 110 Newman B. What Did It Mean to Say „I Saw“, 6.
. C 1830-х годов в синодальной церкви появлялось все больше свидетельств о чудесных явлениях, в которых принимали участие обычные люди. Как указывает исследовательница Кристин Воробец, «в 1830-е годы Синод смягчил свое отношение к незыблемой вере мирян в чудеса, происходящие в ежедневной жизни» 111 111 Worobec C. The Miraculous Healing of the Mute Sergei Ivanov 22 February 1833. // Coleman H.J. (Ed.). Orthodox Christianity in Imperial Russia. A Sourcebook on Lived Religion. Bloomington, 2014, 23.
. Появление официально одобренных свидетельств о чудесных исцелениях от мощей святых подвижников, серия статей в 1820–1840-е годы на тему чудес в журнале «Христианское чтение», в которых доказывалось, что чудеса не просто возможны, но необходимы, – все это говорит о том, что для синодальной церкви стало невозможно классифицировать как суеверие или просто игнорировать разнообразные нарративы о вторжении потустороннего мира в повседневную жизнь 112 112 О цели чудес Ветхого Завета // Христианское чтение. II. 1844, 268.
. В последнее десятилетие перед реформами 1860-х годов шла подготовка канонизации епископа Тихона Задонского, находила свой путь к читателю агиографическая литература о почитаемых подвижниках с описанием чудес и мистических явлений 113 113 О канонизации святого Тихона см.: Chulos C. Converging Worlds: Religion and Community in Peasant Russia 1861–1917. DeKalb, 2003, 72–81. Чулос также пишет о том, что с распространением грамотности среди крестьян рос спрос на духовно-нравственную литературу. Согласно опросу 1894 года среди крестьян Нижнедивицкого района Воронежской губернии, две трети книг, популярных в крестьянской среде, были религиозно-нравственного содержания. Ibid., 83–84.
. Здесь цели и интересы духовенства не следует противопоставлять народной религиозности, так как многие представители духовенства, особенно монашества, могли быть и участниками видений, и создателями популярных текстов о чудесах. Во многих случаях спонтанные «народные» видения, как-то связанные с обретением святыни (иконы), легитимизировались приходским духовенством. В то же время существовала и другая, более осторожная, охранительная тенденция, основывающаяся на теологии «различения духов», о которой речь пойдет далее.
Дело Крайнева позволяет нам выявить три критерия, по которым церковная власть расследовала соответствие видения Крайнева православному вероучению. Во-первых, личность святого, являющегося в видениях, историчность и православность которого было необходимо установить. Во-вторых, соответствие свидетельства о святом православному канону. И, наконец, внимание церковной власти привлекла и духовная личность самого визионера. Мы рассмотрим позицию церковной власти в отношении свидетельства Крайнева, а также богословскую и логическую аргументацию иерархов, делавших вывод о природе и смысле видения, испытанного рядовым.
Читать дальше