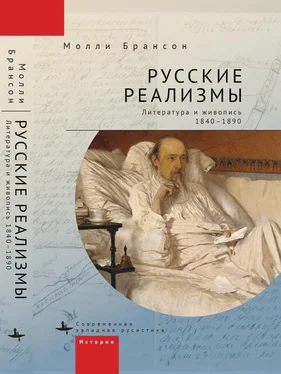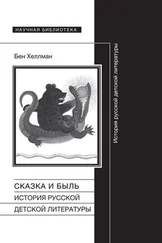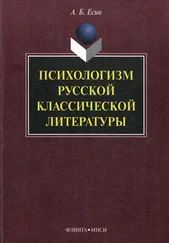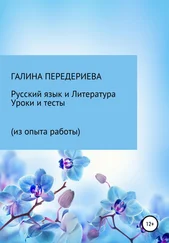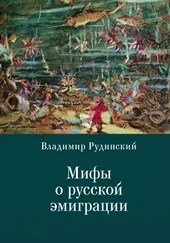Фергюсон также рассматривает историческую трансформацию типа фланера. Что касается русского контекста, Дж. Баклер описывает фельетониста 1840-х годов как преображенного парижского фланера 1830-х годов [Buckler 2005: 96-108, особенно 99]. Обширный корпус научных исследований фланера главным образом обязан работам В. Беньямина, посвященным Бодлеру, особенно см. [Беньямин 2015].
Цейтлин обрисовывает сходства и различия между физиологическим очерком и повестью, «путешествиями» и фельетоном [Цейтлин 1965: 107–110]. О важности фельетона в более поздний исторический момент см. [Dianina 2003: 187–210].
Полностью утверждение звучит следующим образом: «Писать наобум, дать волю своей фантазии, сказать себе: “И так сойдет!” – казалось мне равносильным бесчестному поступку; у меня, кроме того, тогда уже пробуждалось влечение к реализму, желание изображать действительность так, как она в самом деле представляется, как описывает ее Гоголь в “Шинели”».
Байерли рассматривает присвоение Диккенсом и Теккереем визуальной зарисовки – в первую очередь как концепции – в качестве средства усиления реалистичности их литературных «зарисовок» [Byerly 1999: 349–364].
Вс. Дмитриев обобщает тенденции в исследовании о творчестве Федотова, начиная с критики Дружинина до конца 1900-х годов [Дмитриев 1916].
Сарабьянов предлагает альтернативное прочтение предполагаемого дилетантизма Федотова, утверждая, что такие любительские качества были преимуществом для зарождающегося реализма, который стремился дистанцироваться от официальных художественных институтов и художественных условностей [Сарабьянов 1985: 15].
Многие отмечали театральность живописи Федотова. См., например, [Сарабьянов 1985: 56]; [Ацаркина 1958: 78].
В связи с этим см. [Леонтьева 1985: 24–26].
Подобная повествовательная серия не была новинкой для Федотова. См., например, его сепии 1844 года, изображающие смерть и увековечивание памяти собаки Фидельки. См. репродукции в [Сарабьянов 1985: ил. 6, 7].
Судя по всему, Федотов считал себя в равной степени и писателем, и художником. Мнения о его поэзии варьировались от пренебрежительных до восторженных. А. Н. Майков, к примеру, пишет, что «стих его уже никак не мог соперничать с кистью; стих несравненно ниже ее» («Рецензия на статью Толбина о П. А. Федотове», 1853) [Лещинский 1946: 229]. И. А. Можайский, с другой стороны, пишет, что «многие из стихотворений его весьма удачны», и подтверждает эту художественную амбидекстрию окончательным комплиментом: «…его стихи нравились величайшему из наших живописцев, Брюллову, а картины – знаменитому писателю Гоголю» («Несколько слов о покойном академике П. А. Федотове», 1859) [Лещинский 1946: 202].
Это стихотворение было впервые опубликовано только в 1872 году в журнале «Русская старина».
Признавая, что существует мало материальных свидетельств, подтверждающих связь Федотова с группой революционных демократов, известной как кружок Петрашевского, М. Н. Шумова приводит веский аргумент в пользу отголосков социально критической позиции в поэтических произведениях Федотова и предполагает, что эти тексты, которые обошли цензуру, распространяясь в устной форме, сделали идеологическое содержание живописных работ Федотова более понятным [Шумова 1988: 119–142].
Сарабьянов предположил, что это произведение, выполненное при помощи разных художественных средств, связано с русскими фольклорными традициями и, если быть точнее, с лубком, популярным видом деревянной гравюры, сочетающей в себе текст и изображение. Сарабьянов даже видит в стремлении Федотова вербализировать свои картины влияние уличных представлений, где сам художник исполнял роль ярмарочного зазывалы [Сарабьянов 1985: 54].
Отмечая еще один момент, который драматизирует корреляцию между речью и рисованием (словом и изображением) в творческом процессе Федотова, Дружинин пишет, что Федотов часто посещал дома друзей, где «можно было без церемонии усесться посреди гостей с карандашом и бумагою, чертить и рисовать, в то же время болтать» [Дружинин 1853: 34].
Подчеркивая двойной статус изображенных предметов как знаков действительности и художественной «бутафории», Н. А. Рамазанов говорит о смятении одного из друзей Федотова, когда он увидел художника, сидящего за столом с открытой бутылкой. «“Уничтожаю натурщиков!” – ответил Федотов, указывая на скелетики двух съеденных селедок и наливая стакан шампанского приятелю» [Рамазанов 1863: 234].
Читать дальше