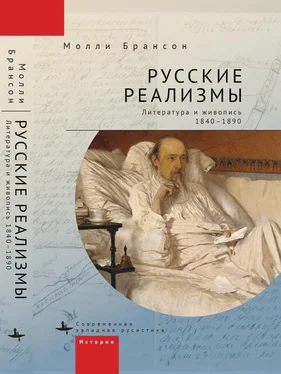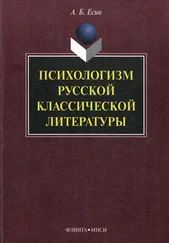Реалистическая живопись в России, учитывая широко распространенное представление о ее «вторичности», должна была преодолеть еще большие преграды. К этим препятствиям можно добавить давно сложившееся представление об устойчивом логоцентризме русской культуры, привилегированном положении слова над образом, восходящем к религиозной иконографии [Лихачев 1992: 45–64] [19] См. также [Дмитриева 1962: 11-102]; [Базанов 1982]. М. Левитт оспаривает это предположение о логоцентризме русской культуры в [Левитт 2015].
. Поэтому, чтобы повысить статус реалистической живописи, Стасов не обращается для ее легитимации к европейским художественным моделям, вместо этого он подчеркивает неотъемлемую связь русской живописи со словесностью. Для Стасова связь русской живописи с литературой не только поддерживала ее легитимность, ставя оба искусства, казалось бы, на одну ступень, но и обеспечивала живопись повествовательным и идейным содержанием, которое критик считал ее определяющей характеристикой.
Находясь на периферии и опаздывая на десятилетие, русский реализм неминуемо отличался исторической неустойчивостью и имел второстепенный статус [20] Рассматривая русский реализм как имеющий статус второстепенности, я обращаюсь к современным исследованиям о маргинальных художественных традициях, см., к примеру, [Mitter 2008: 531–548]. В специальном выпуске журнала «Modern Language Quarterly», посвященном реализму на периферии («Peripheral Realisms»), Дж. Эсти и К. Лай видят возможность для «нового поворота в реализме» в этом сдвиге к границам. [Esty, Lye 2012:276]. См. также вступительные статьи «Realism in Retrospect» О. Джэфф (A. Jaffe) и А. Койкенделл (A. Coykendall) в специальных выпусках журнала «Journal of Narrative Theory» [Jaffe 2006], [Coykendall 2008].
. Для писателей и художников, рассматриваемых здесь, мастерство реализма представляло собой ключ к культурной и профессиональной легитимности, социальному и политическому могуществу и национальной, а может, и глобальной, модернизации. Следовательно, мы могли бы сказать, что дерзость и сомнение, характерные для реализма, понимаемого в более широком смысле как метод и направление, в русских его вариантах XIX века находят свое отражение в дерзости и сомнении, происходящих из намного более глубоких культурных механизмов. Получается, что для принятия реализма нужно не только догнать центры европейской культуры, но и в значительной степени их преодолеть. Понимая отстающую и зависимую позицию, русская литература и живопись приближаются к эпистемологической задаче реализма с резко выраженным нетерпением и желанием достичь и переступить границы «реального».
Сестры, родственницы, соседи
За несколько часов до своей первой и последней встречи с Анной Карениной Константин Левин идет на концерт, где он слушает «Короля Лира в степи», музыкальную фантазию, поставленную по трагедии Уильяма Шекспира. Он обескуражен и смущен, и поэтому во время антракта обращается к знатоку музыки Песцову, чтобы узнать его мнение. «Удивительно!» – восклицает Песцов, хваля исполнение как «образное», «скульптурное» и «богатое красками» [Толстой 1928–1958, 19: 261]. Левин обнаруживает, что он не заметил визуальных аспектов музыкальной фантазии, потому что не прочитал афишу, и поэтому пропустил намеки на предполагаемое «явление» Корделии во всей ее пышной скульптурной красоте. Преобразуя свое смущение в эстетическое возражение, Левин замечает, что «ошибка Вагнера и всех его последователей в том, что музыка хочет переходить в область чужого искусства, что так же ошибается поэзия, когда описывает черты лиц, что должна делать живопись» [Там же: 262]. Для ученого классической эстетики несдержанная критика Левина может брать свое начало только в одном тексте, изданном более столетия назад, в 1766 году, – в работе Лессинга «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» [21] В дневниковой записи от 13 марта 1870 года Толстой упоминает «Лаокоона» Лессинга в связи с картиной Н. Н. Ге [Толстой 1928–1958, 48: 118]. О теологической интерпретации интереса Толстого к Лессингу см. [Mandelker 1993: 104–121].
.
Лессинг начинает свой трактат с описания знаменитой греческой статуи, изображающей Лаокоона и его двух сыновей, закрученных в тиски змей Посейдона в судорогах от невообразимой боли. Почему, спрашивает Лессинг, скульптор преобразует страшный крик отца, так живо схваченный Вергилием, в едва различимый, возможно даже миролюбивый, слабый звук?
…крик он должен был превратить в стон не потому, что крик изобличал бы неблагородство, а потому, что он отвратительно искажает лицо. <���…> Одно только широкое раскрытие рта, – не говоря уже о том, какое принужденное и неприятное выражение получают при этом другие части лица, – создает на картине пятно, а в скульптуре – углубление, производящее самое отвратительное впечатление [Лессинг 1953: 395–396].
Читать дальше