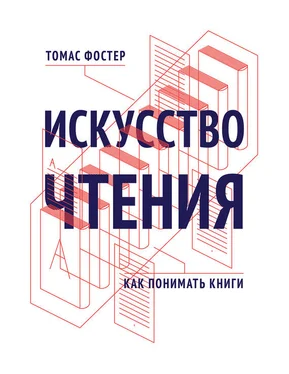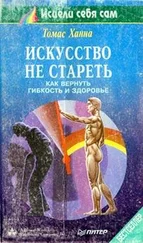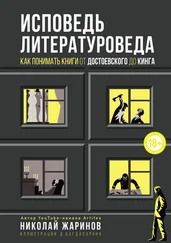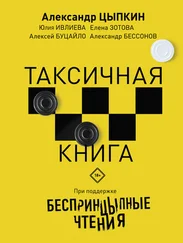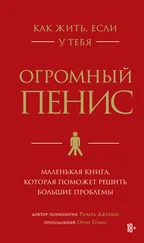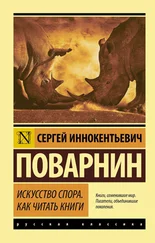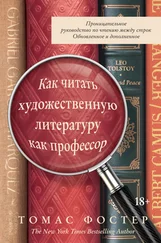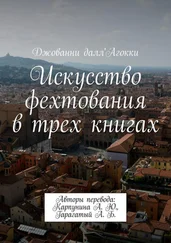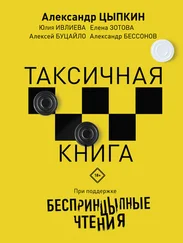А как насчет СПИДа?
Что ж, бывают такие вот особые болезни века. У романтиков и викторианцев был туберкулез, у нас теперь СПИД. В середине ХХ века на эту роль претендовал полиомиелит. Почти у всех были знакомые, которые либо умерли, либо на всю жизнь обзавелись костылями, либо оказались на искусственной вентиляции легких из-за этой тяжелой и очень страшной болезни. Сам я родился в тот год, когда доктор Джонас Солк осчастливил весь мир, открыв долгожданную вакцину. Но многих моих ровесников все равно не пускали, скажем, в общественные бассейны. Даже уже побежденный, полиомиелит долго оставался кошмаром наших родителей. Как ни странно, писательское воображение он почти не затронул: в книгах того времени мало кто им болеет.
А вот эпидемия СПИДа очень даже занимает современных авторов. Почему? Давайте пройдемся по списку. Это эстетичный недуг? Конечно, нет, но у него то же изнурительное, долгое течение, что и у чахотки. Загадочный недуг? Да, при первом появлении он был загадкой; впрочем, и теперь у вируса столько мутаций, что подобрать универсальное лекарство еще никому не удалось. Символичный недуг? Более чем; СПИД – просто кладезь метафор. Долгая латентная фаза, из-за которой любая жертва становится невольным разносчиком заразы, внезапное и непредсказуемое пробуждение, почти стопроцентная смертность в первые годы эпидемии – все это может выглядеть очень символично. То, что главная мишень вируса – молодые люди; то, как он обрушился на гей-сообщество и стал бичом богемы, как выкосил страны третьего мира; все это горе и отчаяние, но также мужество, упорство, сострадание (или его отсутствие) уже породили множество символов, метафор, тем и литературных сюжетов. В силу некоторых особенностей распространения и исторических нюансов СПИД придает художественному образу еще и политическое измерение. Любой желающий найдет в теме ВИЧ или СПИДа подкрепление своей политической платформе. Общественные и религиозные консерваторы почти сразу усмотрели в эпидемии божью кару. Правозащитники, наоборот, истолковали инертность правительства как знак враждебности к этническим и сексуальным меньшинствам: ведь именно они были сильнее всего затронуты болезнью. Видите, какая большая смысловая нагрузка у недуга, который только и примечателен, что способом передачи, инкубационным периодом да сроком протекания.
Учитывая большой общественный резонанс, можно ожидать, что СПИД в литературе займет примерно то же место, что «знаковые» болезни других времен. Роман Майкла Каннингема «Часы» (1998) – современная переработка романа Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй», в котором контуженный ветеран Первой мировой сходит с ума и кончает с собой. После той войны контузия и ее последствия были притчей во языцех. Бывает ли эта контузия вообще? Может, контуженные – просто симулянты или от природы склонны к нервным расстройствам? Можно ли их вылечить? Почему у одних контузия сопровождается психической травмой, а у других – нет? Чего такого они натерпелись на войне? С каждой новой войной медицинские термины менялись или уточнялись. В Первую мировую – контузия, во Вторую – нервное истощение, после Кореи и Вьетнама – посттравматический синдром, и всякий раз находились как верующие, так и скептики. Странным образом официальная медицина объявила новейшим видом контузии синдром Персидского залива, который, кажется, был чисто физиологическим. Та же самая официальная медицина в прежние времена утверждала, что контузия и ее последствия не более чем миф.
Каннингем, конечно, не мог писать о контузии; да и со времен вьетнамской войны прошло столько лет, что посттравматический синдром утратил актуальность. Кроме того, действие его романа происходит в современной городской среде, как было и у Вулф, – только «современность» разная. Наша с вами городская среда включает в себя гомосексуальные сообщества, а их опыт содержит ВИЧ и СПИД. Вот и самоубийца у Каннингема болен тяжелой формой ВИЧ. В остальном же эти две смерти очень похожи. В обеих мы видим личную трагедию, характерную для определенной эпохи, но заключающую в себе вневременное, общечеловеческое страдание, отчаяние и мужество. Мы видим, как «жертва» пытается отвоевать власть над собственной жизнью у тех сил, что так жестоко ею распорядились. Детали меняются; человеческая суть остается, – вот что говорит нам Каннингем. Так часто бывает, когда старое произведение получает новую трактовку: мы узнаем кое-что и о былых временах, и о наших нынешних.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу