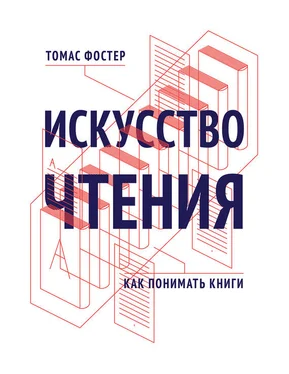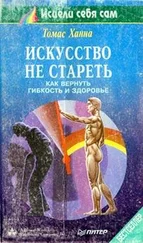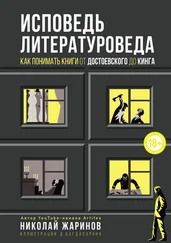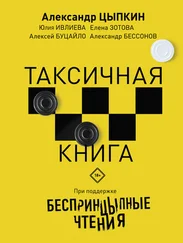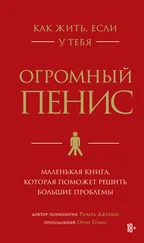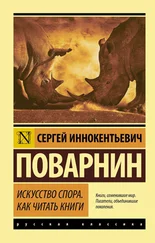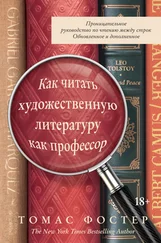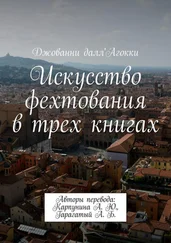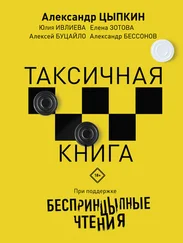Любование покойным и восхищение его красотой, попытка представить себя на месте вдовы, громкое рыдание – поведение Лоры предполагает своего рода символический брак. Однако мир мертвых опасен; мать хочет предостеречь Лору (в некоторых версиях мифа Деметра предупреждает Персефону, чтобы не ела ничего в царстве Аида). Более того, миссис Шеридан посылает Лори как нового Гермеса проводить Лору обратно, в царство живых.
Ну ладно, допустим, мы поверили. Но зачем нужно было ворошить старье трех– или четырехтысячелетней давности? Вы ведь об этом сейчас думаете, правда? Мне кажется, есть пара-тройка причин или, скорее, пара наиболее вероятных ответов. Многие исследователи отмечали, что миф о Персефоне – это архетипическая история юной девушки, которая взрослеет и становится женщиной, то есть обретает знание о сексуальности и смертности. Мы не можем стать истинно взрослыми, пока не постигнем свое плотское бренное начало. И Лора частично обретает это знание за один летний день. Она любуется рабочими и сравнивает их с молодыми людьми, которые приходят в дом к воскресному ужину (видимо, как возможные кандидаты в женихи для сестер Шеридан). Позже она находит необычайно красивым мертвого молодого мужчину; вот вам сразу и сексуальность, и смерть. Неспособность сформулировать, что есть жизнь, – в конце рассказа Лора беспомощно повторяет: «Разве жизнь… разве жизнь…» – говорит о том, что встреча со смертью оставила неизгладимое впечатление и девушке трудно сразу вернуть сознание в мир живых. Вступление во взрослую жизнь, подсказывает Мэнсфилд, – одна из главных историй всей нашей цивилизации; конечно, это происходит с каждым человеком по отдельности, но миф, отображающий наш общий, архетипический опыт, циркулирует в западной культуре с античных времен и даже не особенно изменился. Вызывая в нашей памяти извечную легенду об инициации, Мэнсфилд наделяет историю Лоры мощью древнего мифа. Вторая причина несколько прозаичнее. Когда Персефона возвращается из подземного царства, она в каком-то смысле превращается в собственную мать; в некоторых греческих обрядах даже не делалось различия между матерью и дочерью. Может, оно и неплохо, если эта мать – настоящая Деметра, но гораздо хуже, если она – миссис Шеридан. Когда Лора надевает мамину шляпку и берет ее корзину, она вместе с тем перенимает материнские взгляды и убеждения. Более того, хотя бездумная надменность собственной семьи и вызывает у нее протест, она не может совсем спуститься с олимпийских высот и не взирать сверху вниз на простых смертных в долине. Радость и облегчение при виде спасителя-Лори (хотя опыт свой Лора вроде сочла «волшебным») подсказывают, что ее попытки стать собой увенчались лишь частичным успехом. И разве это не общая наша участь? Как бы мы ни стремились к полной личностной автономии, от родительского наследия все равно никуда не деться.
Что если вы не заметите в рассказе всего вышеизложенного, а просто прочтете его как историю о юной девушке, которая совершила не самый разумный поступок, но узнала много нового о жизни в своем рискованном походе? Что если вы не разглядите в образе Лоры ни Еву, ни Персефону, ни других мифических героинь? Поэт-модернист Эзра Паунд говорил так: «Стихотворение должно прежде всего работать на читателя, для которого ястреб – это просто птица». То же самое относится к прозе. Понять текст на уровне сюжета, если этот текст так же хорош, как рассказ Мэнсфилд, – уже прекрасное начало. А если вы потом разберетесь с образами и мотивами, то получите от текста еще больше. Ваши выводы могут быть совсем не такими, как у меня или Дианы; но, если всмотритесь в текст внимательно и пристально, вы придете к обоснованному итогу, который обогатит и углубит опыт чтения.
Так что же означает этот рассказ? А у него много смыслов. Вы найдете в нем критику классового общества, историю о вступлении во взрослый мир секса и смерти, забавные картинки из жизни одной семьи и трогательный портрет ребенка, пытавшегося стать самим собой в условиях тотального родительского контроля.
И все это уместилось в один небольшой рассказ. Чего же еще желать!
У поэтов когда-то была традиция: в конце длинной поэмы или стихотворного цикла добавлять небольшую прощальную строфу. Роль ее могла быть самой разной. Иногда это был просто краткий итог всего остального. Моя любимая разновидность: извинение перед самой поэмой, что-то вроде: «Ну вот, книжечка, я тебя и написал. Может, ты и не шедевр, но я сделал все что мог. Теперь иди от меня в большой мир и живи в нем как знаешь. Прощай». Это ритуальное обращение называлось французским словом envoi (французы вообще подарили миру много терминов). В примерном переводе envoi означает отправку с миссией.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу