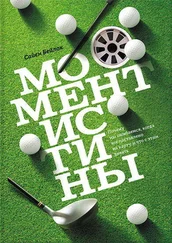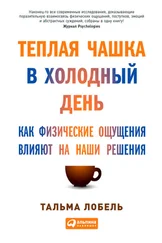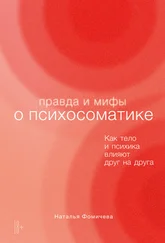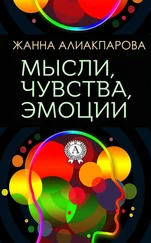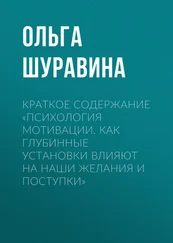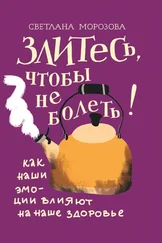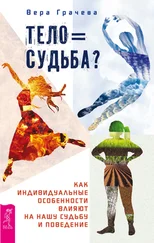«Взаимозаменяемость» душевных волнений и температурных ощущений помогает нам понять и такие психические нарушения, как сезонное аффективное расстройство, или сезонную депрессию. Симптомы этого расстройства, как правило, возникают в зимние месяцы года, когда на улице темно даже днем. От обычной депрессии сезонная отличается тем, что в остальное время года люди, страдающие ею, чувствуют себя вполне здоровыми, особенно в солнечный летний период. Исследования этого расстройства до сих пор сосредоточивались преимущественно на связи между уменьшением количества дневного света и депрессией, однако низкая температура, возможно, тоже вносит свою лепту в усиление чувства печали и одиночества, которое испытывают больные. Возможно, зимний холод имеет особое значение для усугубления депрессии. Людям, страдающим сезонной депрессией, обычно советуют пользоваться соллюкс-лампами, но, возможно, больше тепла тоже пошло бы им на пользу.
Проще говоря, когда человек находится в тепле, он чувствует себя лучше и реже страдает от одиночества. Наверное, не случайно некоторые из самых важных в истории человечества политических встреч состоялись в теплой, задушевной обстановке. Например, Кэмп-Дэвид, загородная резиденция президентов США со времен Франклина Рузвельта, которая ютится в лесистых горах Мэриленда, не раз становилась местом встреч мировых лидеров, во время которых им удавалось преодолевать политические противоречия и находить удачные решения. Именно там в 1978 году Джимми Картеру удалось убедить президента Египта Анвара Садата и премьер-министра Израиля Менахема Бегина заключить Кэмп-дэвидские соглашения, которые стали важной вехой в мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Там же в 2012 году президент Обама провел саммит стран «Большой восьмерки». Похоже, когда люди сидят возле теплого камина, у них усиливается ощущение взаимопонимания и единодушия. В результате становится не так трудно найти путь к обоюдовыгодному сотрудничеству. Тепло помогает нам чувствовать себя ближе друг к другу.
Отказ ранит не только душу
Еще несколько десятилетий назад нейробиологи выяснили, что в восприятии физической боли принимают участие строго определенные нейронные цепи. Что бы с вами ни случилось – укололись иглой, обожгли руку или вывихнули голеностопный сустав, – в анализ и регистрацию боли включаются примерно одни и те же нейронные цепи. В эту «болевую матрицу» входят такие области мозга, как островок, передняя поясная кора и соматосенсорная кора головного мозга, которые получают и обрабатывают информацию, поступающую от органов чувств. Позже ученые сделали еще одно важное открытие: подобно тому, как чувства одиночества и холода связаны между собой, так и физическая боль связана с болезненными переживаниями и чувствами – и телесная, и эмоциональная боль в немалой степени регистрируются одними и теми же участками мозговых структур {175}. Мы воспринимаем эмоционально негативные ситуации как наносящие физический вред независимо от того, чем именно они нам грозят и с каким ущербом мы можем из них выйти – с задетым самолюбием или разбитым сердцем.
С эволюционной точки зрения очень разумно использовать одни и те же зоны мозга для восприятия и социальной, и физической боли. Получается значительная экономия ресурсов. Вместо того чтобы создавать совершенно новую, отдельную область мозга для осознания боли социальной отверженности, наша древняя система передачи болевых импульсов эволюционировала в сторону расширения своих функций так, чтобы в нее включились и другие формы боли. Лучше всех, наверное, такой подход описал нейробиолог из Стэнфордского университета Роберт Сапольски: «Эволюция – кустарь, а не изобретатель» {176}.
На самом деле легко себе представить, как система передачи болевых ощущений смогла расширить сферу своей деятельности, чтобы регистрировать также боль, возникающую в процессе социального взаимодействия. Многие приматы, в частности человек, имеют продолжительный период младенчества. Это означает, что поддержка социальных контактов в раннем возрасте (для получения еды, крова и защиты) имеет ключевое значение для выживания. Если разлука с человеком, который заботится о малыше, равнозначна угрозе существованию, то душевная боль, вызываемая расставанием, может давать подопечному адаптационное преимущество. Она будет заставлять его держаться поближе к тому, кто его опекает. Наверное, те младенцы, которые лучше других научились использовать этот механизм как социальную тревожную сигнализацию (если чувствовали себя покинутыми опекуном), имели больше шансов на выживание и процветание. Так, в процессе эволюции в генетическом коде человека закрепился механизм, служащий одновременно двум целям {177}.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
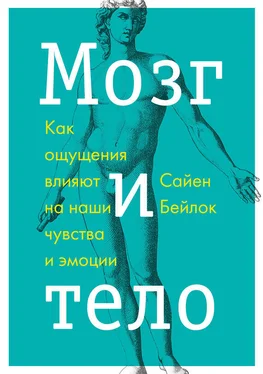
![Дэниел Гоулман - Измененные черты характера [Как медитация меняет ваш разум, мозг и тело]](/books/26978/deniel-goulman-izmenennye-cherty-haraktera-kak-med-thumb.webp)