1 ...6 7 8 10 11 12 ...160 А Морикан, принимал ли он какое-либо участие во всем этом сверкающем вихре? Сомневаюсь. Он был просто частью декора, очередным феноменом, относящимся к той эпохе. Я еще в состоянии увидеть его таким, каким он представал тогда перед моим умственным взором. Прячущимся в полумраке, холодным, серым, невозмутимым, с мерцающими глазами и металлическим «Ouai!», округлявшим его губы. Как будто он говорил самому себе: «Ouai! Знаю все это. Слышал об этом раньше. Давным-давно это забыл. Ouai! Tu parles! [29]Этот лабиринт, эту серну с золотыми рогами, эту чашу Грааля, этого аргонавта, эту kermesse [30]в стиле Брейгеля, эти раненые чресла Скорпиона, эту профанацию толпы, этого Ареопагита, надлунность, симбиозный невроз и в залежи камней – одинокого углокрылого кузнечика. Не упускай этого, колесо тихо вращается. Наступает время, когда…» Вот он склонился над своими pantâcles [31]. Читает со счетчиком Гейгера. Открывая свою золотую авторучку, он пишет пурпурным млеком: Порфирий [32], Прокл [33], Плотин [34], святой Валентин, Юлиан Отступник [35], Гермес Трисмегист [36], Аполлоний Тианский [37], Клод Сен-Мартен [38]. В кармане жилета он носит маленький флакон; в нем мира – ладан с примесью дикой сарсапарели. Дух святости! На левом мизинце кольцо из нефрита с символами инь и ян [39]. Осторожно он приносит тяжелые бронзовые часы с заводной головкой и ставит их на пол. 9.30, звездное время, луна на грани паники, эклиптика усыпана бородавками комет. Сатурн со своим зловещим млечным оттенком. «Ouai! – восклицает Морикан, как бы уцепившись за аргумент. – Я ни против чего не возражаю. Я наблюдаю. Анализирую. Высчитываю. Дистиллирую. Наступает мудрость, но знание есть констатация неизбежного. Для хирурга – скальпель, для могильщика – кирка и лопата, для психиатра – книга его снов, для дурака – бумажный колпак. Что до меня, то у меня колики. Атмосфера слишком разрежена, камни слишком тяжелы, чтобы их переварить. Кали-йога. Пройдет еще всего лишь 9 765 854 года – и мы выберемся из этого гадюшника. Du courage, mon vieux!» [40]
Давайте оглянемся назад в последний раз. Год 1939-й. Месяц июнь. Я не жду, когда гунны меня выселят. Я беру каникулы. Еще несколько часов – и я отправляюсь в Грецию.
Все, что остается от моего пребывания в студии на Вилла-Сёра, – это моя натальная карта, начерченная мелом на стене, напротив двери. Это для тех, кому вздумается поломать над ней голову. Уверен, что это будет строевой офицер. Возможно, что эрудит.
Ах да, на другой стене, высоко под потолком, – две строчки:
Jetzt müsste die Welt versinken,
Jetzt müsste ein Wunder gescheh’n [41].
Понятно, о чем это?
А сейчас мой последний вечер с моим добрым другом Мориканом. Скромная трапеза в ресторане на улице Фонтен, по диагонали напротив жилища Отца сюрреализма [42]. Преломив хлеб, мы поговорили о нем. Снова «Надя». И «Осквернение гостии» [43].
Он печален, Морикан. Как и я, в каком-то смысле. Я только частично здесь. В мыслях уже приближаюсь к Рокамадуру, где мне полагается быть завтра. Утром Морикан снова обратится к своей карте, проследит мах маятника – тот несомненно двинулся влево! – посмотрит, не поможет ли ему капельку Регул, Ригель, Антарес или Бетельгейзе, хоть капельку. Только через 9 765 854 года изменится климат…
Моросит, когда я выхожу из метро на Ваве. Я решил, что должен пойти и выпить один. Разве Козерог не любит одиночества? Ouai! Одиночество средь неразберихи. Не божественное одиночество. Земное одиночество. Покинутые места .
Морось переходит в легкий дождик, серый, приятный, меланхоличный дождик. Дождик нищих. Мысли мои плывут. Внезапно я упираюсь взглядом в огромные хризантемы, такие любила выращивать моя мать в нашем унылом дворе на улице ранних горестей. Они свешиваются там перед моими глазами, словно в каком-то искусственном цветении, как раз напротив куста лилий, его мистер Фукс, сборщик мусора, как-то летом подарил нам.
Да, Козерог – это тварь одиночества. Медленный, уравновешенный, настойчивый. Живет сразу на нескольких уровнях. Думает кругами. Смерть производит на него большое впечатление. Всегда взбирается, взбирается. По большей части в поисках эдельвейсов. Или, может, это бессмертники? Не знает матери. Только «матерей». Мало смеется и обычно невпопад. Коллекционирует друзей так же легко, как почтовые марки, но сам нелюдим. Говорит искренне, вместо того чтобы сердечно. Метафизика, абстракции, электромагнитные явления. Ныряет в глубины. Видит звезды, кометы, астероиды там, где другие видят только родинки, бородавки, прыщи. Поедает сам себя, когда устает от роли акулы-людоеда. Параноик. Амбулаторный параноик. Но постоянный в своих привязанностях – как и в своей ненависти. Ouai !
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу




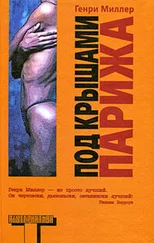


![Генри Миллер - Этот прекрасный мир [сборник]](/books/416436/genri-miller-etot-prekrasnyj-mir-sbornik-thumb.webp)
![Генри Миллер - Мудрость сердца [сборник]](/books/423531/genri-miller-mudrost-serdca-sbornik-thumb.webp)
![Генри Миллер - Замри, как колибри [сборник]](/books/423532/genri-miller-zamri-kak-kolibri-sbornik-thumb.webp)