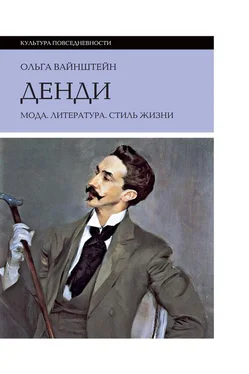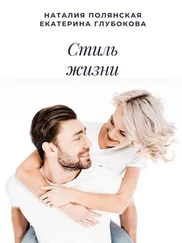Пелэм, отбрасывая позу болезненного денди-меланхолика, напротив, тщательно следит за собой: он пользуется миндальным кремом для лица, подолгу принимает ванну, носит кольца на руках и отнюдь не против таких радостей жизни, как, допустим, гурманское угощение. Однако, если на людях он всячески акцентирует свою «хрупкость», это вовсе не означает, что он на самом деле изнежен и не приспособлен для физических испытаний, – просто это для него подходящая на данный момент модная поза. Эту позу он выдерживает стоически, даже когда навлекает на себя упреки в женственности, – ведь хамелеонство в гендерном отношении, разумеется, женское качество. Если же в других обстоятельствах такая поза неуместна, он легко и с нескрываемым удовольствием демонстрирует, что это всего лишь маска. Когда его вызывают на бой дубинками, он сначала дает присутствующим заранее порадоваться, что «сейчас денди получит хорошую трепку». Для этого он говорит громко, растягивая слова и «самым манерным тоном», демонстративно опасаясь, как бы дубинка не повредила ему костяшки пальцев, и держится нарочито неумело и неуклюже. Но, поскольку на самом деле Пелэм прекрасно физически подготовлен к такого рода боям, он без труда побеждает своего соперника, после чего уже резко меняет тон, давая понять, что все предшествующее поведение было не более чем игрой: «Я принимал поздравления зрителей с совершенно иным, чем раньше, естественным видом, приведшим их в восхищение» [425].
Жизнетворчество Пелэма не ограничивается переключением различных дендистских амплуа. Можно уверенно сказать, что все щегольство в целом для него является комедией, которую он прилежно разыгрывает, но время от времени перед друзьями, которых он уважает, Пелэм приподнимает маску, как бы намекая, что его теперешняя манера поведения – всего лишь временная тактика.
В общении с лордом Винсентом, знатоком древности, изъясняющимся сплошь цитатами из античных авторов, Пелэм невзначай ссылается на Цицерона, чем приводит своего друга в экстаз: «– Heus Domine! – воскликнул Винсент. – С каких это пор Вы стали читать Цицерона и рассуждать о мышлении? – О, – ответил я, – быть может, я менее невежествен, нежели стараюсь казаться; сейчас (курсив автора. – О.В. ) я стремлюсь быть законченным денди; со временем, возможно, мне взбредет на ум стать оратором, или острословом, или ученым, или вторым Винсентом. Вы еще увидите, много раз в своей жизни я четверть, а то и полчаса проводил не так бесполезно, как Вы думаете» [426].
Реакция лорда Винсента на это признание воистину патетична: «Винсент, видимо сильно взволнованный, встал, но тотчас снова уселся и в течение нескольких минут не сводил с меня темных сверкающих глаз, а выражение его лица было так благородно и серьезно, как никогда. “Пелэм, – молвил он наконец, – вот ради таких минут, как эта, когда Ваше подлинное, лучшее ‘Я’ прорывается наружу, я искал общения и дружбы с Вами”» [427].
Однако прав ли лорд Винсент, считая, что наконец-то открыл «подлинного» Пелэма? Увы, только частично, и наш герой сразу дает ему понять, что расслабляться и ликовать преждевременно. На пылкую речь Винсента он отвечает в привычном дендистском стиле, «снова впадая в обычный свой тон томной аффектации», и говорит, что будет слишком занят, чтобы подготовиться к парламентской сессии, поскольку все время уйдет на посещение модных портных.
Таким образом Пелэм, ускользая от очередного определения («Не денди, а ценитель мудрости»), опять опровергает стереотипное восприятие собственной персоны. Он наслаждается этой игрой, позволяющей ему всегда иметь превосходство над доверчивыми зрителями, и получает удовольствие от самого процесса. Его философия – свобода выбора жизненного амплуа в зависимости от момента и собственного настроения. Поддаться чужим дефинициям для него равнозначно попаданию в ловушку. В этом смысле он подобен автору романтической пьесы, который порой намеренно разрушает сценическую иллюзию, чтобы лишний раз напомнить публике, что он – хозяин положения и что все происходящее на сцене подвластно только его творческой воле [428].
Известный философ-романтик Фридрих Шлегель концептуализировал этот эстетический принцип в своем знаменитом 108-м Атенейском фрагменте, назвав его иронией и усмотрев в ней высшее проявление человеческой свободы: «Она самая свободная из всех вольностей, ибо благодаря ей можно возвыситься над самим собой, и в то же время самая закономерная, ибо она безусловно необходима. Весьма хороший знак, что гармоническая банальность не знает, как ей отнестись к этому постоянному самопародированию, когда вновь и вновь нужно то верить, то не верить, пока у нее не закружится голова и она не станет принимать шутку всерьез, а серьезное считать шуткой» [429].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу