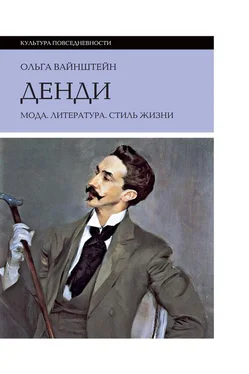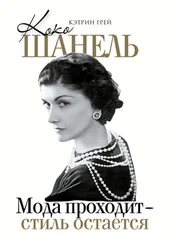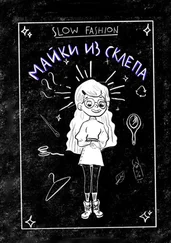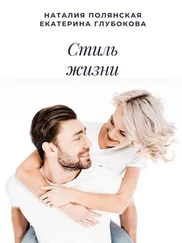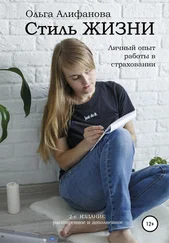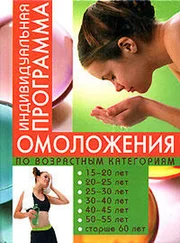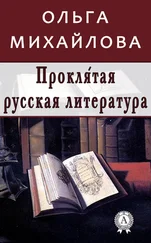А эти принципы подразумевали достаточно жесткую идеологию – например, они обязывали к совершенно определенным политическим взглядам. Аристократы в большинстве своем были монархистами, что в Англии XIX века было естественно и понятно. Но во Франции после революции аристократы составляли политическое меньшинство. Браммелл здесь примкнул к легитимистам и поддерживал Карла Х, но Луи Филиппа считал выскочкой и не пошел на бал в честь его коронации. Когда его спросили, был ли он на балу, он сказал, что послал туда своего слугу и вообще не знает такого короля – «Вы имеете в виду герцога Орлеанского?» [161].
Другое жесткое требование, вытекающее из аристократического статуса, – беспечность в отношении денег. Аристократ, владеющий землей или другими фамильными ресурсами, может позволить себе точно не знать, что сколько стоит, и уж, конечно, не станет в своем кругу обсуждать цены на вещи. Молчаливо предполагается, что выбирается все самое хорошее и дорогое. В браммелловском исполнении эта черта опять-таки утрируется: в пору своего расцвета денди как-то раз притворно изумился, когда нищий на улице попросил у него полпенни. «Бедняга, – сказал Браммелл, – я слышал о такой монетке, но никогда ее не видел», после чего дал нищему шиллинг (что равнялось двенадцати пенсам). Это показное пренебрежение «мелочью» позднее станет одним из условий вхождения в свет молодых щеголей буржуазного происхождения: роскошь станет символическим аналогом благородства.
Непосредственным предметом подражания этих щеголей являются статусные траты придворного аристократа: костюм, экипаж, слуги. Значительные расходы подкрепляли престиж имени, а экономить значило бы ронять его. Известна история, как «31 декабря 1786 года маршал де Ришелье навестил своего внука в коллеже дю Плесси. Подросток гордо объявил деду, что не дотронулся до кошелька с 50 луидорами, полученного три месяца назад в подарок к празднику. Маршал, если верить анекдоту, тотчас вышвырнул кошелек, о котором шла речь, во двор, где его с благодарностью подобрал дворник, а затем прочел школяру нотацию: “В Вашем возрасте, да еще нося имя Ришелье, человек не имеет права хранить деньги в кармане без всякого употребления”» [162]. Этот сюжет не случайно цитировался на страницах журнала «Мода» в 1832 году: требовалось объяснить дендистские привычки сорить деньгами ссылкой на аристократические обыкновения.
Разумеется, и в то время существовали руководства по моде, где давались советы, как прилично одеваться, избегая излишних трат. Автор английского трактата 1830 года, скрывшийся за псевдонимом «кавалерийский офицер», давал подробные рекомендации, как сшить хороший костюм всего за 480 фунтов [163](в то время как обычная цена составляла 730 фунтов). Однако подобные расчеты были скорее ориентированы на молодых людей буржуазного происхождения; аристократический подход был иной.
Наконец, надо упомянуть еще один несомненный стандарт аристократического поведения, который тоже был канонизирован в дендистском кодексе: умение владеть своим телом. Физическая ловкость развивалась благодаря обязательным урокам танцев и практике светских приемов, а для мужчин – еще и участием в спортивных играх. Денди, виртуозно владеющий техникой элегантных жестов, по определению не может быть неуклюжим (вспомним историю с чашкой кофе!). Изящество его манер имеет физический эквивалент – точность движений. «Мыслящее и прозрачное» тело имел знаменитый щеголь граф д’Орсе: его манера ездить на лошади считалась образцовой, равно как и умение держать себя в гостиных [164].
Как правило, именно аристократическая культура служила объектом подражания, источником этикетных норм.
Мысль об эстетическом превосходстве аристократов высказывает в письме героиня Бульвера-Литтона леди Фрэнсес Пелэм: «Чем выше положение человека, тем менее он претенциозен… Вот основная причина того, что у нас манеры лучше, чем у этих людей; у нас они более естественны, потому что мы никому не подражаем; у них – искусственны, потому что они силятся подражать нам; а все то, что явно заимствовано, становится вульгарным. Самобытная вычурность иногда бывает хорошего тона; подражательная – всегда дурного» [165]. Но благодаря дендизму сословные границы аристократической культуры существенно расширились – как выяснилось, элегантность не обязательно напрямую связана со знатным происхождением. В этом состоит «double bind» [166]дендизма – демократизация и в то же время ставка на элитарность. Естественность манер служила знаком избранности, постулируя новые нормы поведения, которые непосвященным могли показаться в высшей степени искусственными.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу