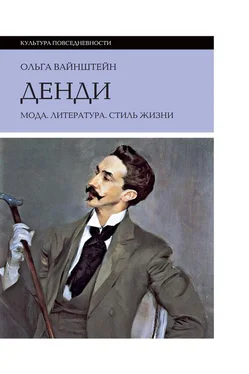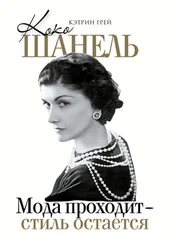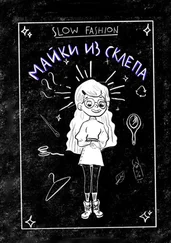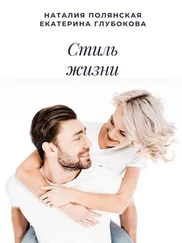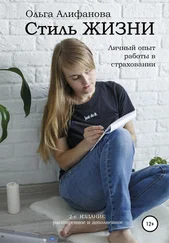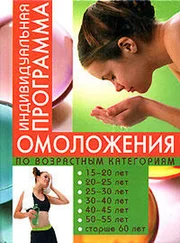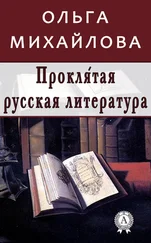Портрет первых стиляг конца 40-х частично дошел до нас благодаря сатирикам-очеркистам: «В дверях зала показался юноша. Он имел изумительно нелепый вид: спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зеленые; таких широченных штанов канареечно-горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого клеша; ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию из черного лака и красной замши.
Юноша оперся о косяк двери и каким-то на редкость развязным движением закинул правую ногу на левую, после чего обнаружились носки, которые слепили глаза, до того они были ярки…» [1072]
В этом описании интересна не только мода, но и пластика стиляги: «на редкость развязные движения» были тщательно продуманы и не случайны. Стиляги телесно оформляли себя как люди изысканные, намеренно манерные. Их новые жесты: запрокинутая назад голова, высокомерный взгляд сверху вниз на окружающих, особая «развинченная» походка – свидетельствовали о принадлежности к богеме. Сходные приемы применяли и денди XIX века, нарочито растягивая слова и вырабатывая медлительную походку. И, разумеется, пластика отчасти диктовалась костюмом: «Небывалая одежда заставляла иначе двигаться, иначе танцевать. Скорее всего, в музыке, новых ритмах и крылась потребность иначе одеться, как-то обозначить себя», – отмечает Р.М. Кирсанова [1073].
Стиляги заявляли о себе не только в моде и в музыке, но и в столь традиционном дендистском жанре, как фланирование. В каждом городе был свой «Бродвей» – центральная улица, где стиляги фланировали по вечерам. В Москве «Бродвеем» называлась улица Горького. Было хорошим тоном явиться вечером, когда уже начинались сумерки, на Бродвей и там, так сказать, совершать хил, то есть прогулку [1074]. В Ленинграде «Бродвеем» был Невский проспект, в Баку – Торговая улица.
Среди стиляг «Бродвей» сокращенно называли «Бродом»: дополнительная пикантность этой игры слов состояла в том, что русское слово «брод» (переход по дну через реку) тоже намекало на возможную опасность, необходимость поиска надежного пути поперек течения. Ведь нередко там же, на «Бродвее», происходили стычки с дружинниками. Во время прогулки по «Броду» для новых фланеров было важно не только встретиться с друзьями, но и, конечно, показать свой костюм и успеть заметить, что носят другие. На уровне одежды коммуникация могла происходить даже между незнакомыми людьми, если они чувствовали общность стиля. Как рассказывал о таких прогулках опытный модник Саша Власов, «я на ходу посылал приветствие плащу». Существовали специальные приемы как бы случайной демонстрации одежды: к примеру, сунуть руку в карман пиджака, чтобы приоткрыть подкладку плаща (фирменный плащ нередко опознавался по подкладке). Опознание марки на ходу считалось высшим пилотажем. Это была типично дендистская зрительная стратегия, санкционирующая оглядывание – как мимолетное, так и внимательное.
Отличались стиляги от обывателей и своим особым наречием. Он складывался из жаргона музыкантов в сочетании с переиначенными английскими словами. «Ходить по Невскому значило “хилять по Броду”, клеить – это было тоже из лабужского жаргона» [1075], «хеток олдовый» – старая шляпа. Для непосвященных это звучало почти как иностранный язык. «Чувень, клевая лаба, четыре сакса», – мог сказать один стиляга другому, приглашая его послушать отличный ансамбль с четырьмя саксофонами [1076].
Но у советского обывателя стиляжья любовь к джазу вызывала только страх. «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст» – гласила популярная присказка.
В массовом сознании образ стиляги прочно закрепился в шаржированном варианте – он был даже увековечен в классическом романе «Пушкинский дом» Андрея Битова: «Это был тот самый пресловутый “стиляга” начала пятидесятых. В тех же брючках, в том самом спадающем с плеч до колен зеленом пиджаке, чуть ли не на тех же подметках, подклеенных у предприимчивого кустаря, в том же галстуке, повязанном микроскопическим узлом, в том же перстне, с тем же коком, с тою же походкой, в самом карикатурном, даже для того времени, в самом “крокодильском” виде…» [1077]
Долгое время стиляги были героями «крокодильской» сатиры, а поскольку в ту пору журнальные карикатуры рисовали и впрямь талантливые графики – Б. Пророков, Кукрыниксы, то подобные представления о стилягах оказались удивительно живучими, во многом заслонив свидетельства очевидцев и непосредственных участников. А к ним стоит прислушаться в первую очередь – и тогда начнет вырисовываться более сложный и интересный культурный ландшафт.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу