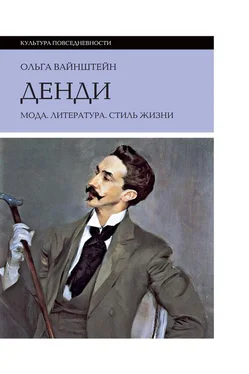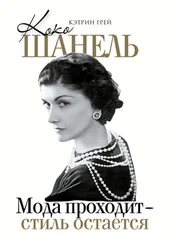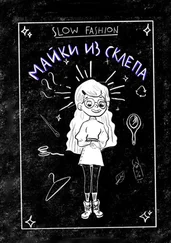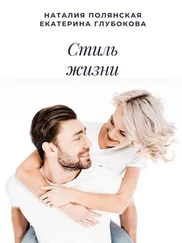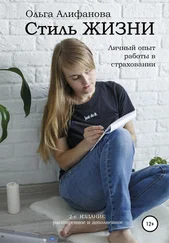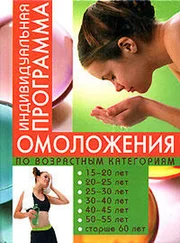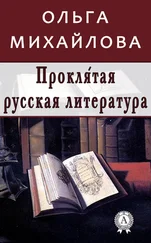В целом дендизм стал массовой модой среди молодых людей в России примерно с 20-х годов XIX столетия. Это была среда состоятельной дворянской молодежи из старинных семейств, и аристократизм российских денди не только придавал ему ярко выраженный сословный характер, но и давал повод для разных спекуляций по поводу дендистской мужественности.
Самая простая форма подобных подозрений – косвенный упрек в изнеженности. Вновь, как и во времена Крылова, в описаниях франтовских нарядов сквозит фантом женственности: «Молодые модники ходили зимой в белых шляпах и при самых бледных лучах солнца спешили открыть зонтики; светские кавалеры тех времен носили из трико в обтяжку брюки и гусарские с кисточками сапожки; жабо у них было пышное, шляпа горшком, на фраках – ясные золотые пуговицы, воротники в аршин. У часов висели огромные печати на цепочках, у других виднелись небольшие серьги в ушах» [993]. Элегантного франта всегда могли упрекнуть в женоподобии и заподозрить в нем гомосексуальные наклонности.
Леонид Гроссман, автор статьи «Пушкин и дендизм», вполне в духе социологической критики, столь популярной в 1920-е годы в советской России, отмечал: «Истощение старинной родословной, закат фамильного герба выражается обычно в женственной хрупкости его последних обладателей. Утончение физической организации, обострение нервной системы, повышение чувственности – вот типичные признаки последних носителей древних имен» [994]. Эти рассуждения Гроссмана относятся к герою-денди Евгению Онегину, которого Пушкин называет «мод воспитанник примерный» и сравнивает с «ветреной Венерой».
Ф.Ф. Вигель в своих «Записках» отмечал: «Жеманство, которое встречалось тогда в литературе, можно также было найти в манерах и обращении некоторых молодых людей. Женоподобие не совсем почиталось стыдом, и ужимки, которые противно было бы видеть и в женщинах, казались утонченностями светского образования. Те, которые этим промышляли, выказывали какую-то изнеженность, неприличную нашему полу, не скрывали никакой боязни и, что всего удивительнее, не совсем были смешны» [995].
Для адекватного восприятия этого высказывания Вигеля надо учитывать, что сам Филипп Филиппович Вигель был известен своим пристрастием к мужскому полу и из-за этого испытывал немало трудностей в служебной карьере [996]. В своих «Записках» он, разумеется, не мог открыто отстаивать «голубую» эстетику, и оттого его пассажи на эту тему изобилуют осторожными оговорками: «какую-то изнеженность», «не совсем почиталось стыдом», «не совсем были смешны». Ощущая противоречия, Вигель добавил в конце этого рассуждения примечательный вывод: «Истребляя между нашими молодыми людьми наружные формы, столь поносные, особенно для русских, нынешний век перенес их в другую крайность и мужественности их часто придает мужиковатость» [997]. Так, пытаясь достичь компромисса, Вигель невольно наметил свою шкалу «мужественности»: от «женоподобия» до «мужиковатости», причем последнее качество у него, как легко понять, маркируется весьма отрицательно.
Подобное отношение открывает для нас довольно важный и в высшей степени типичный срез гендерной оценки мужского костюма в России: щеголеватость приветствуется, если она подчеркивает мужественность как устойчивую добродетель и воспринимается с подозрением либо негативно, как только возникает тень женоподобия.
В таких обстоятельствах едва ли не единственной возможностью для русского щеголя проявить себя, не уронив в общественном мнении, становится, как это ни парадоксально, ношение мундира.
Многие молодые дворяне служили в привилегированных воинских гвардейских частях – в таких элитных полках, как Семеновский или Преображенский. Военная форма издавна считалась престижной и шикарной, и в этой среде было немало модников. «Военные ходили затянутыми в корсеты; для большей сановитости штаб-офицеры приделывали себе искусственные плечи, на которых сильнее трепетали густые эполеты» [998]. Заметим, что мода на корсет у военных сохранилась даже тогда, когда корсет исчез из мужского гардероба «на гражданке».
Из всех видов форменной одежды наиболее щегольским считался военный мундир. Как пишет Л.Е. Шепелев, «отношение к военному мундиру в России всегда было очень заинтересованным и даже любовным. Мундир служил напоминанием о боевой доблести, чести и высоком чувстве товарищества. Считалось, что военная форма была самой нарядной и привлекательной мужской одеждой. Все сказанное относится прежде всего к парадному мундиру, надевавшемуся в торжественных случаях и именно для этого предназначавшемуся» [999]. Российские императоры всегда появлялись на публике в парадных военных мундирах и лично регламентировали изменения в воинской форме. Существовала практика пожалования мундирами, когда ими награждались шефы – почетные командиры воинских частей или военные чины в отставке в память прежней службы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу