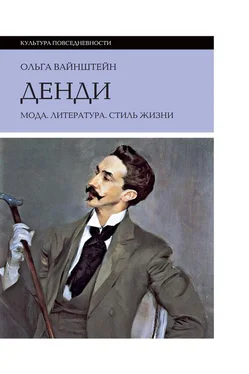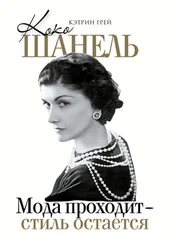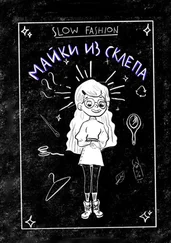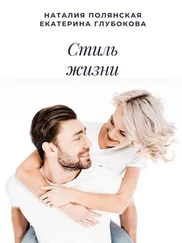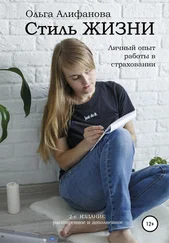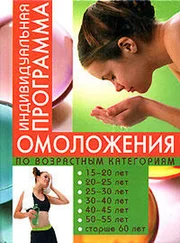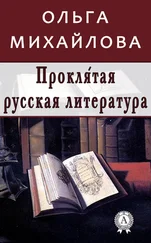Интонация Пыляева содержит неизбежную иронию, но, заметим, с оттенком почтительного восхищения. Все объясняет следующий пассаж, где о Куракине с явной симпатией сказано: «Князь Куракин за всю свою жизнь не оскорбил никого» [955]. Этот этический критерий – решающий, хотя он высказан мимоходом. Поэтому повествователь не упрекает Куракина в легкомыслии и тщеславии, чего вполне можно было бы ожидать. К этому важному моменту нам придется еще вернуться.
Роскошный костюм Куракина был бы немыслим вне контекста уже существующей костюмной традиции, начало которой в России положил Петр I. Его реформы одежды способствовали появлению нового европейского стиля повседневного и парадного платья. Надлежащие образцы костюма выставляли в городах на чучелах-манекенах, и за отказ следовать им брался денежный штраф. В 1700 году Петр издал свои знаменитые указы, повелевавшие «всех чинов людям» брить бороды, носить немецкое и венгерское платье по будням и французское – по праздникам. Эти указы распространялись на все сословия, кроме духовенства, извозчиков и пахотных крестьян.
Что же за костюм насаждался петровскими реформами? Как отмечает Т. Коршунова, в Европе подобный ансамбль «сложился при дворе Людовика XIV и состоял из кафтана (жюстокора), камзола (весты) и штанов (кюлотов)» [956]. Он был достаточно непростым по отделке, с кружевными жабо и манжетами, украшался пуговицами (которых могло быть более сотни), вышивкой золотой или серебряной нитью, галунами. В первой половине XVIII века женские и мужские костюмы шили из одинаковых тканей: парча, бархат, узорчатый шелк, а для отделки мужских кафтанов использовали блестки, канитель, цветные зеркальные стекла, вставки из фольги. «В наиболее парадных костюмах пышный растительный узор почти сплошь покрывал грудь, полы и спинку кафтана» [957]. В мужском платье были приняты яркие тона – розовый, желтый, зеленый. Это считалось нормальным, и никто не упрекал придворного щеголя XVIII столетия в излишнем пристрастии к отделке и пестроте, поскольку таков был универсальный язык моды того времени [958].
Во второй сатире Антиоха Кантемира подробно описан франт того времени Евгений, замечательно осведомленный обо всех деталях модного кроя: он
понял, что фалды должны тверды быть, не жидки,
В пол-аршина глубоки и ситой подшиты,
Согнув кафтан, не были б станом все покрыты;
Каков рукав должен быть, где клинья уставить,
Где карман и сколько грудь окружа прибавить;
В лето или осенью, в зиму и весною
Какую парчу подбить пристойно какою;
Что приличнее нашить: сребро или злато… [959]
Любитель добродетели Филарет, упрекающий нашего франта за чрезмерное мотовство, тем не менее дает ему разумные советы
как выбрать цвет и парчу и стройно
Сшить кафтан по правилам щегольства и моды:
Пора, место и твои рассмотрены годы,
Чтоб летам сходен был цвет, чтоб тебе в образу,
Нежну зелень в городе не досажал глазу,
Чтоб бархат не отягчал в летню пору тела,
Чтоб тафта не хвастала средь зимы смело,
Но знал бы всяк свой предел, право и законы… [960]
Роскошная придворная мода европейского типа привела к распространению щегольства среди русских дворян как особой культуры самовыражения через одежду. Это был пример успешной модернизации не только платья, но и образа жизни, поскольку тем самым Россия встраивалась в общеевропейские тенденции исторического развития. На протяжении XVIII столетия мода еще несколько раз менялась, и в частности мужской гардероб в 1780-е годы упростился под опосредованным влиянием английского костюма, но все эти подвижки совершались в рамках заложенного в начале века Петром «большого» европейского стиля.
В XVIII столетии модниками были в основном приближенные ко двору состоятельные аристократы, «пестрый рой молодых царедворцев, заимствовавших свой блеск от светлости престола…» [961]. Но в Екатерининскую эпоху уже появился новый тип: франт среднего достатка, подражавший (нередко в весьма карикатурной форме) придворной моде. Такие щеголи именовались на французский манер петиметрами (petit-maître). Патриархальная структура российского общества диктовала сдержанное отношение к мужским нарядам: излишнее внимание к своему туалету осуждалось как проявление суетности и тщеславия – распространенный моралистический упрек модникам. Поэтому петиметры все время находились в «зоне риска». Постоянные «профессиональные риски» русского щеголя были связаны с недоверчивым отношением к франтовству со стороны окружающих.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу