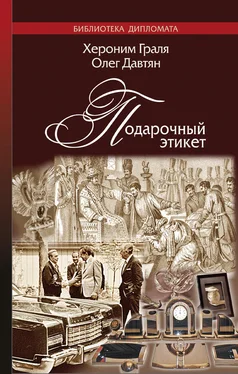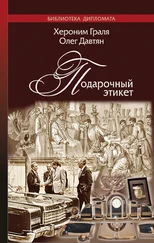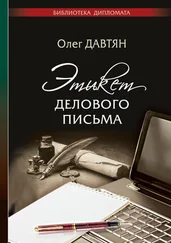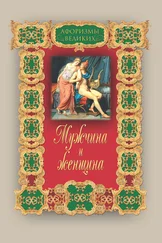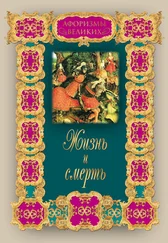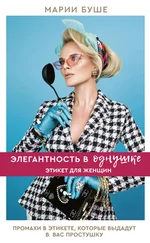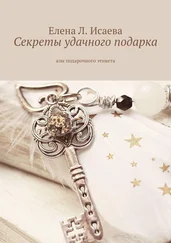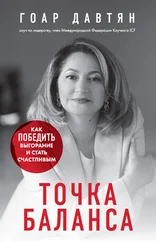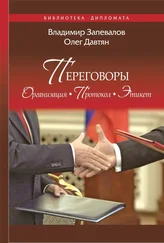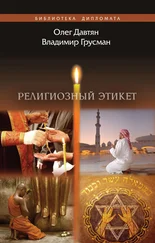После приветствия и вручения верительных грамот пришло время показывать дары. Как отдельные подарки вносили не только серебряную посуду, мебель и драгоценные ларцы, но также фарфоровую посуду, наполненную изделиями остендских кондитеров, мешочки с приправами и, наконец, шесть фляг «вод разных питьевых». Аудиенцию завершила церемония целования царской руки.
Подобные описания содержатся и в донесениях других дипломатов – голштинского посла Адама Олеариуса (1634), секретаря датского посольства Андреаса Роде (1659), императорского посланника Августина фон Мейерберга (1661–1662), посетившего Россию в 1670–1673 годах, а также посланников Речи Посполитой. Кажется, именно опыт тех последних имеет особенное значение: во-первых, в силу исключительно частых и плотных контактов посольской службы обоих государств (самое большое количество посольств и дипломатических миссий более низкого ранга до конца XVII в.); во-вторых, как интересный пример противостояния двух посольских традиций, которые от относительного сходства (стоит здесь вспомнить русские корни посольского обычая Великого княжества Литовского) пришли в результате оксидентализации и полонизации литовско-русских земель Речи Посполитой и больших изменений в политической идеологии Московского государства к полному взаимоотрицанию и потере общего культурного кода. С другой стороны, нельзя забывать, что именно контакты с польско-литовской дипломатией – отнюдь не только за счет своей численности – были для российской посольской службы своеобразным полигоном, источником бесценного опыта в контактах с европейской дипломатией, которые в значительной степени подготовили ее к новым вызовам и задачам эпохи Петровских реформ.
Со временем и европейские дипломаты мастерски овладели всеми тонкостями «восточных» посольских обычаев и превосходно поняли важную роль даров в московском этикете. Более того, благодаря русскому опыту, в некоторых странах, например, в Литве, был создан свой, еще более многообразный дипломатический протокол и церемониал, который позволял, в случае необходимости, применять равнозначные действия, в том числе и репрессивные по отношению к московским и восточным легатам. Строгость в исполнении требований дипломатического этикета – численности миссии, ее маршрута, ритуала встречи, «столовой» церемонии, наконец, поднесения даров – особенно подчеркивала опыт, приобрести который они могли лишь в Восточных землях.
Первым шагом к расширению регулярных польско-московских контактов стали упомянутые выше переговоры 1570 года. Состав «великого посольства» точно соответствовал новому государственному укладу. Первым послом был назначен представитель Короны, иновроцлавский воевода Ян Кротоский, которому помогали два литовца: второй посол – минский каштелян Миколай Тальвош и посольский секретарь, литовский писарь Анджей Хоружий – Убрынский. В состав делегации входил также и еще один представитель Короны – радзеевский староста Рафал Лещинский. Правда, указанный состав вряд ли можно назвать удачным, особенно, если учесть, что оба «великих посла» и Лещинский исповедовали протестантизм, к которому Иван IV относился особенно враждебно…
Надо сказать, что приветственная аудиенция прошла довольно спокойно: Иван IV дары послов и их свиты принял, но чем больше тянулось время, тем труднее становилось вести переговоры.
К тому же послам пришла в голову отнюдь не блестящая идея представить Иоанну своего исповедника – консеньора чешских братьев Ивана (Яна) Рокиту, что в свою очередь вовлекло их в совершенно ненужные религиозные прения, а сам царь позднее продемонстрировал еще и презрение к польскому обычаю, а особенно к одежде.
Но прежде чем Иван IV смог сурово покарать за эти вынужденные переговоры своих советчиков (летом 1570 года на плаху сложила свои головы большая часть московских сановников, во главе с несправедливо обвиненным в тайных сношениях с польским королем печатником Иваном Висковатым), он обрушил свой гнев на самих послов. Поводом для этих возмутительных деяний послужила не вполне обдуманная реакция самих гостей, которые посмели усомниться в царской щедрости и открыто выразили свое неудовольствие полученными подарками.
Особую пикантность ситуации придавал тот факт, что всего лишь несколько лет назад, в 1562 году, царские дипломаты сами спровоцировали подобный инцидент при датском дворе – после подписания важного трактата – а одним из главных виновников того был именно «канцлер» Висковатый. Упомянутый эпизод позволяет более точно проиллюстрировать значение самих даров в московской политической доктрине, и одновременно указать на истинную подоплеку притеснений, какие испытали на себе «неблагодарные» посланцы Ягеллона.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу