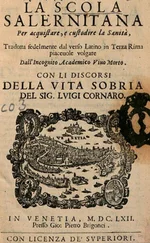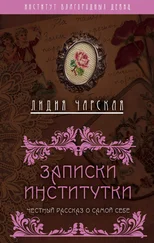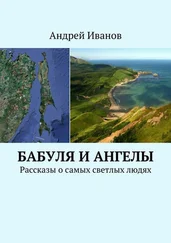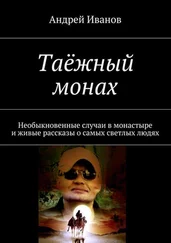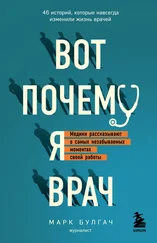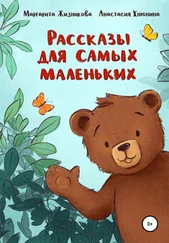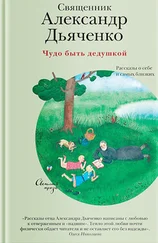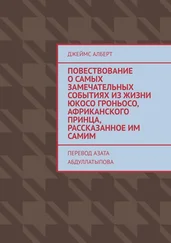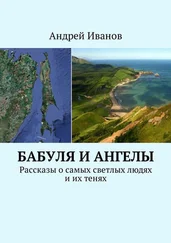В сентябре 1844 года Клаус послал образцы соли рутения и описание нового элемента в Стокгольм Берцелиусу и в Петербург академику Гессу.
Приговор Берцелиуса был суров и решителен: ваш образец - нечистая соль иридия.
Клаус сразу же и столь же решительно ответил, что при всем уважении к г. Берцелиусу он не может с ним согласиться.
Ответ еще не успел дойти до Стокгольма, как Клаус получил от Берцелиуса новое письмо, написанное через 8 дней после первого. В нем Берцелиус взял назад свое заключение, признал, что присланный ему образец соль неизвестного металла. Он объяснил причину своей ошибки тем, что, проводя параллельно анализ соли, полученной от Клауса, и своей двойной соли хлоридов иридия, не нашел между ними разницы. Она выявилась лишь через неделю, когда из раствора соли Клауса выпал черный осадок.
25 октября 1844 года на заседании Академии наук в Петербурге было торжественно объявлено об открытии нового элемента, 57-го по общему счету и первого в нашей стране.
Весь мир облетело сообщение о "русском члене платинового семейства". К этому времени уже было получено 6 граммов рутения.
Берцелиус в ответ на присланные ему дополнительные препараты и сведения писал Клаусу: "Примите мои искренние поздравления с превосходными открытиями и изящной их обработкой; благодаря им Ваше имя будет неизгладимо начертано в истории химии. В наше время очень принято, если кому-либо удается сделать настоящее открытие, вести себя так, как будто вовсе не нужно упоминать о прежних работах и указаниях по тому же вопросу в надежде, что ему не придется делить честь открытия с каким-либо предшественником. Это плохое обыкновение, и тем более плохое, что преследуемая им цель все же через некоторое время ускользает. Вы же поступили совсем иначе. Вы упомянули о заслугах Озанна и выдвинули их, причем даже сохранили предложенное им название. Это такой благородный и честный поступок, что Вы навсегда вызвали во мне самое искреннее глубокое почтение и сердечную симпатию, и я не сомневаюсь, что у всех друзей доброго и справедливого это встретит такой же отклик".
За рубежом, как отметил Клаус, его открытие, "сделанное где-то на границе Европы и Азии, рассматривалось химиками с большим недоверием", тем более что автор "имел смелость исправить некоторые факты великого Берцелиуса относительно свойства иридия и родия, которые уже считались не подлежащими проверке".
Преодолеть недоверие помог сам Берцелиус. Он опубликовал в Известиях Шведской академии наук выдержки из статей Клауса, с комментариями, подтверждающими правоту химика из далекой России.
Контрастом этому явилось выступление Г. Озанна ("Горный журнал", № 3, 1845) "против присвояемого г-ном Клаусом открытия рутения". Косвенно его возвращение к этой теме "после 17 лет молчания" имело положительные последствия, побудив Клауса опубликовать в том же журнале (№ 7, 1845) статью "О рутене", в которой дана четкая характеристика нового элемента, показывающая, что он "не имеет ничего общего ни с полием, ни с рутением г-на Озанна". Лишь после этого Озанн окончательно отказался от своих претензий.
Все эти события не оторвали Клауса от продолжения исследований. Получив в подарок платиновую руду из Южной Америки, он обнаружил в ней рутений, доказал, что этот элемент не составляет специфической особенности уральской руды и оставался незамеченным всеми, кто изучал американские платиновые месторождения. Там, как и на Урале, "собственных" минералов рутения не нашли. Удалось установить, что рутений входит в состав некоторых минералов осмия и иридия (его в рутениевом невьянските и в рутениевом сысерските до 15 процентов).
Демидовская премия Академии наук за 1845 год была единогласно присуждена Клаусу, а проделанная им работа охарактеризована как научный подвиг. И это было действительно так!
Новый элемент обладал странными свойствами, оказался двуликим. Полученный электролитически, он по цвету и блеску сходен с серебром, а выделенный из соединений, по внешнему виду напоминает платину. Задала загадку и плотность рутения, у всех других она постоянна и не зависит от способа получения. Рутений не подчинился этому правилу: при плавке получали металл с плотностью более 12 г/см3, а при восстановлении из солей она снижалась до 8 г/см3.
Пополнение семейства платиноидов таким элементом расширяло перспективы использования руды. Добыча ее на Урале шла полным ходом. Белые червонцы стали привычными. Словом, все сулило процветание, И вдруг...
Читать дальше