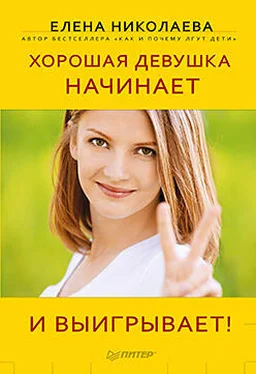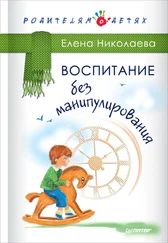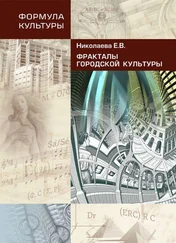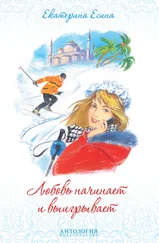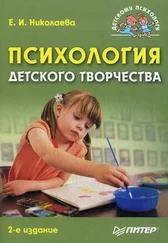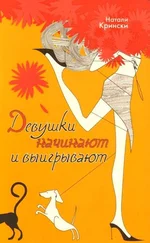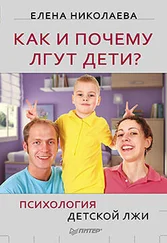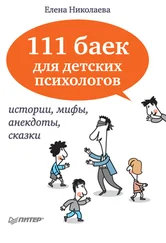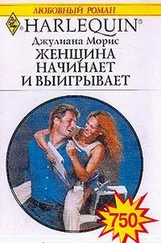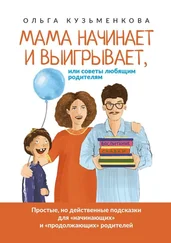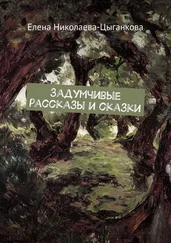Уваров очень рано умер. Супруга продолжила его работу. И 14 января 1885 года ее избрали сначала почетным членом Московского археологического общества, а через три месяца – его председателем. Она начала большую работу по сбору русских древностей и их сохранению.
Прасковья Семеновна вела обширную переписку, возглавила Комиссию общества по сохранению древних памятников, ездила по городам для натурного обследования, вместе с членами комиссии составляла специальную схему, по которой предлагала осуществить опись существовавших древних памятников. В 1895 году она стала почетным членом Императорской академии наук и нескольких университетов. Уварова была избрана профессором в Дерптском, Харьковском, Казанском, Московском университетах и Петербургском археологическом институте. Она стала первой русской женщиной, получившей звание почетного академика.
Она помогла Ивану Владимировичу Цветаеву в создании в Москве Музея изящных искусств (сейчас он называется Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). Именно Уварова подготавливала его прием у императора и помогала в прохождении бумаг, требовавшихся для создания музея.
Прасковья Семеновна побывала во многих археологических экспедициях на Кавказе. После революции она эмигрировала и умерла в 1924 году. Ей было больно, когда она узнавала о разграблении коллекций и вывозе ценностей из России.
Это другая судьба, но в чем-то похожая на первую: обе женщины занимались тем же делом, что и любимый человек, хотя в первом случае их разлучил развод, а во втором – смерть. Работа помогала каждой из них преодолевать боль и страдания.
Наконец, мне бы хотелось представить вам еще одну судьбу. Кажется, столь трагичную, что соревноваться с ней по тяжести могут немногие женщины. Княгиня Мария Волконская – дочь генерала Николая Раевского, жена декабриста Сергея Волконского. Генерал Раевский был скуп на похвалы. Но в какой-то момент он сказал, что он не знал женщины более прекрасной, чем его дочь.
Мы знаем, что она, как типичная женщина ее круга, играла на рояле, пела, знала языки. Считается, что образ черкешенки в «Кавказском пленнике» был списан Пушкиным именно с Марии Волконской, а «Бахчисарайский фонтан» даже был ей посвящен.
Юрий Лотман однажды сказал, что фантастический всплеск русской духовности XIX века, необычайный взлет русской культуры был подготовлен женщинами. Он практически вторит Пирогову о смысле женщины в русской культуре. Это дамочки, грезившие жертвенными подвигами, создали рафинированные понятия чести, долга, совести. Они их внушили своим детям. Но этих женщин практически никто не заметил, потому что их жизнь была тихим духовным подвигом, и они не говорили о себе сами. И Мария Волконская, безусловно, относится к плеяде этих блестящих женщин.
Она вышла замуж по воле отца, без любви. До момента ареста мужа она видела его не более трех месяцев, хотя женаты они были уже год и у нее родился сын, названный в честь деда Николаем.
Мария ничего не сказала мужу, когда он отвез ее рожать к ее родителям, откуда до ближайшего врача было пятнадцать верст. Роды были тяжелые, и она некоторое время болела. Но ей сообщили об аресте мужа. И она с больной ногой и младенцем на руках отправилась к нему в Петербург. Она не понимала его идей и не знала причин восстания. А потому первое, о чем она спросила – не был ли ее муж задержан из-за кражи чужих денег. Узнав, что причина в другом, она обрадовалась.
Мария Волконская первая отправилась в Сибирь за мужем, возможно, не представляя себе, ни куда она едет, ни сколько времени там проведет. Ей было объявлено, что она теряет свои дворянские права, государство не отвечает ни за ее безопасность, ни за ее человеческое достоинство. И, наконец, дети, родившиеся в Сибири, станут казенными крестьянами.
Ей пришлось оставить сына на попечение сестры мужа, потому что собственные родные не поняли ее поступка. Николай I надеялся напугать женщин, а потому выслал с гонцом предписание обращаться с ними строго.
Мария Волконская выехала в декабре 1826 года, а приехала на рудник Благодатный в 1927 году. Встреча с мужем многократно описана: он бросился к ней, но она опустилась на колени и поцеловала его кандалы. Это не эмоциональный порыв, но духовное действие, которое придает жизни смысл. Выйдя замуж из родного дома, где не было речи о свободе, она получает свободу, которой распоряжается по собственному усмотрению, – свободу выполнения супружеского долга. Нет сомнений, что и у ее мужа до этого мгновения вряд ли были чувства по отношению к молоденькой женщине, не разделявшей его взгляды и не знавшей о них ничего. И нет ответа, чей подвиг в большей мере пробудил в российском обществе желание свободы: поступок мужей, вышедших на площадь в декабре 1924 года, или их жен, последовавших за ними вопреки воле царя, общества, родных.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу