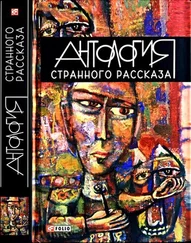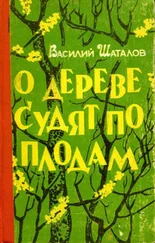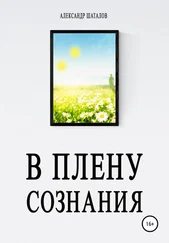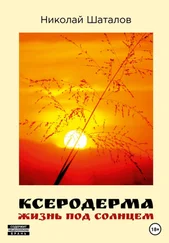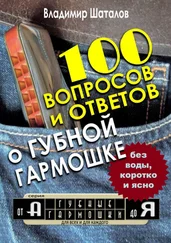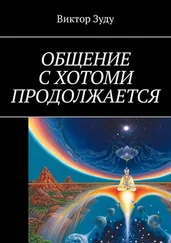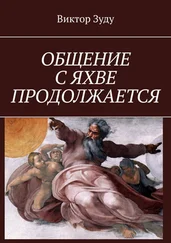Виктор Шаталов - Эксперимент продолжается
Здесь есть возможность читать онлайн «Виктор Шаталов - Эксперимент продолжается» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Домоводство, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Эксперимент продолжается
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3.5 / 5. Голосов: 2
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Эксперимент продолжается: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Эксперимент продолжается»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Эксперимент продолжается — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Эксперимент продолжается», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Нетрудно представить, во что бы вылился обвинительный процесс на педагогическом совете. Но до педсовета дело так и не дошло, и тому была причина. Всякому, кто приходил во внеурочное время и не мог ответить на какой-нибудь вопрос, учитель непременно подробнейшим образом объяснял материал, а объяснение сопровождал небольшими набросками, чертежами, набором ключевых слов, используя при этом цветные карандаши. Листочки эти ребята уносили с собой, а в следующий раз перед ответом воспроизводили их на доске или на чистых листах бумаги. Отдаленно это напоминало традиционное конспектирование, но было значительно более лаконичным и изобиловало множеством ярких образных выражений и символов, опираясь на которые с необычайной легкостью восстанавливалась логика рассуждений и последовательность объяснения. Не случайно поэтому такие листы были названы опорными конспектами. Они ходили по рукам, их переписывали в отдельные тетради, они оказались незаменимыми при подготовке к экзаменам.
Можно было бы привести множество примеров, раскрывающих роль и значение деталей опорных конспектов для осмысления не просто больших, а очень больших и сложных разделов. Вот лишь один из них.
1957 год. Средняя школа No 6. На опорные конспекты уже переведен весь курс физики. Десятиклассники сдают экзамен. В физкабинете у трех стен стоят три большие доски, у каждой работает ученик, готовясь к ответу по экзаменационному билету.
Вот Коган, спокойный, старательный, хорошо успевающий ученик, положил мелок и повернулся лицом к комиссии. Вся доска исписана. Но что это?..
- Какой у тебя номер билета?
- Двадцать третий.
- Прочитай, пожалуйста, вопрос.
- Самоиндукция.
- А у тебя?
На доске - выкладки для ответа об электромагнитной индукции. Прошла минута, другая. Прошло еще 5 минут. Коган стоит у доски, опустив плечи, в полной растерянности - провал памяти. И не удивительно. Полчаса он старательно исписывал доску, мысленно проговаривая предстоящий ответ, и вдруг... На его месте и взрослый бы человек растерялся. И тогда:
- Коган, гвоздик.
Лицо юноши осветилось радостью. В минуту была вымыта доска, а еще через 20 минут на ней был готов ответ на вопрос билета. Единственное слово помогло восстановить в памяти во всех логических связях один из самых каверзных вопросов курса физики.
0 том, насколько проще усваивать учебный материал с помощью опорных конспектов (позже они приобрели еще более компактную форму и стали называться опорными сигналами - ориентирами на дороге к цели), говорится в нескольких тысячах анкетных откликов учащихся школ, техникумов, студентов высших учебных заведений, курсантов военных училищ и, конечно, учителей. Это стало понятно всем, кто стал использовать опорные конспекты в своей практике.
"Удивительная штука - человеческая память! Два-три слова - и, будто высвеченные лучом прожектора, с поразительной яркостью возникают лица, события"2. Эти слова принадлежат человеку, который много лет провел в сталинских лагерях по ложному обвинению и, не имея карандаша и бумаги, пользовался узелковым письмом - завязывал маленькие узелки на суровых нитках. Нитки эти у него не отбирали, и после реабилитации он по этим узелкам восстановил в памяти события страшных лет.
Можно с уверенностью сказать, что опорные конспекты и сигналы, если бы их стали широко использовать в школах, спасли бы от второгодничества миллионы учащихся, но тогда никто не увидел в опорных конспектах реального способа искоренения этого зла. А может быть, и не хотел увидеть? Десятилетиями школа выдавала стандартные 80% успеваемости, и это вполне устраивало и учителей, и наробразовское руководство. А дети? Что дети! Их можно было обвинить в нерадивости, тупости, генетической неспособности к учению, в других пороках. А ведь еще М. Горький сказал, что если человеку всю жизнь говорить, что он свинья, то он в конце концов может и захрюкать. Нелишне в связи с этим вспомнить и Сен-Симона, который требовал, чтобы его по утрам будили словами: "Вставайте, граф, вас ждут великие дела!"
Итак, новая методика обучения припозднилась, но не опоздала. Стоило бы только начать эксперимент не в 1956 г., а на несколько лет позже, как он был бы уничтожен в административном порядке. Рассудим: нетрадиционная система учета знаний допускала (и даже требовала) в первые полгода - год работы на новой методической основе обязательного выставления неудовлетворительных оценок. Но уже в начале 70-х годов учителя были фактически лишены такого права: в школы ворвался процентный вал, и каждая выставленная в конце учебного года двойка оборачивалась для учителя неисчислимыми бедами. Поэтому стало торжествовать пресловутое "3 пишем, 2 - в уме". О творчестве в этих условиях не могло быть и речи. Из школ изживались требовательные, бескомпромиссно честные педагоги, а им на смену приходили все новые и новые выпуски молодых учителей, безропотно обеспечивающих 100% успеваемости при "всевозрастающем уровне качества знаний". И это продолжалось не год и не два - десятилетия! Теперь эти годы принято называть застойными. Но школа не просто остановилась, она все глубже и глубже погружалась в трясину угодничества, лжи и приспособленчества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Эксперимент продолжается»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Эксперимент продолжается» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Эксперимент продолжается» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.