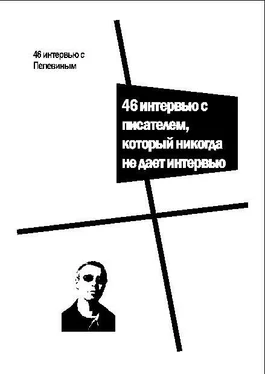Я стал интересоваться буддизмом и другими религиями еще ребенком. В то время любая религиозная литература была труднодоступной в СССР, но мы имели тонны и тонны атеистических справочников и методологических руководств для лекторов научного атеизма. Они были доступны в любой библиотеке и описывали различные религии в таких деталях, что можно было смело назвать эти книги советским эквивалентом «Многообразия религиозного опыта» [У. Джеймса]. Я имел обыкновение читать эти книги на базе ПВО около Москвы, где я проводил большую часть своих летних каникул. Я все еще не могу понять, зачем лекторам по атеизму необходимые было знать так много относительно Таосизма — возможно, чтобы быть способным бороться с ним в Московской области, когда начнется всеобщая эпидемия. Ладно, буддизм казался мне единственной религией, которая не походила на проекцию советской власти на область духа. Много позже я понял, что все было с точностью до наоборот: советская власть и была попыткой спроецировать предполагаемый небесный порядок на Землю. Так вот, буддизм был полностью вне этого порочного круга, и в этом было что-то странно волнующее и успокаивающее.
ЛК:Я знаю, что в течение нескольких последних лет Вы путешествовали в Азию для дальнейшего изучения буддизма. Какие страны Вы посетили?
ВП:Прежде всего, я не могу сказать, что я действительно изучаю Буддизм. Я — не буддолог. Я не могу даже сказать, что я буддист в смысле твердой веры или принадлежности секте, выполнения ритуалов, и т. п. Я только изучаю и тренирую свое сознание, для которого Дхарма Будды является лучшим инструментом, который я знаю: и слово «буддизм» означает для меня именно это. И я также полностью принимаю моральное учение буддизма, потому что это — необходимое условие для способности тренировать свое сознание. Но моральное учение буддизма не слишком отличается от моральных учений других традиций. Я посетил Южную Корею несколько раз, чтобы участвовать в буддистской практике. Я также посетил Китай и Японию, но не в прямой связи с буддизмом.
ЛК:Ваш тема — глубоко российская. В равной мере, это говорит о Вашем интересе к Азии. Вы полагаете, что Вы будете всегда жить в России, или Вы думали о проживании за границей в течение длительного периода?
ВП:Если Вы говорите, что мои темы глубоко российские — я не смею это оспаривать, хотя самый факт, что Вы способны понять, о чем я пишу, мог бы дать повод думать, что они не так уж глубоко российские. Возможно это означает, что нет ничего глубоко российского и являющегося русским в эти дни. Что касается проживания за границей, ну, в общем, все возможно. Но пока я не строю никаких планов.
ЛК: Я отказываюсь от «глубоко российского» и требую, чтобы ваши работы были просто «российские». Логика до знакомства с Россией или с работами Виктора Пелевина такова: эмпирический русский Пелевин пишет относительно эмпирической России, значит, если он не отделяет себя полностью от своих работ, они — российские. Вы полагаете, что это не значит «быть русским» в наши дни? Или Вы ссылаетесь на мнение, существующее на различных уровнях, что человечество не имеет ничего специфически национального, а следовательно, и Россия не имеет никаких специфических особенностей?
ВП:Я часто думаю, что логика — недостающая связь между проституцией и законом (если мы полагаем, что между ними имеется промежуток). Логически, мой внутренний юрист может утверждать, что ваше письмо — более русское, чем мое, основываясь на следующем очевидном факте, полученном из нашего общения: во-первых, Вы странно заинтересованы этой специфической проблемой; во-вторых, Вы, кажется, используете термин «русский» намного чаще, чем я; в-третьих (внимание присяжных!), Ваша фамилия является намного более русской, чем моя (она звучит подобно мистеру Неттлесу для российского уха, в то время как «Пелевин» не означает вообще ничто, или меня в лучшем случае). Однако, поскольку прежний директор ЦРУ имел обыкновение говорить: «Слава Богу, я — не юрист», я не буду доказывать, что мои книги не русские, потому что они, конечно, русские. Но что это значит для книги быть российской? Это означает впитанное с молоком матери православие или веру в мессианскую роль России, или какую-либо принятую всерьез идеологию, путь, по которому часто случалось идти последние два столетия? В этом смысле я не думаю, что я подпадаю под такое определение, поскольку я никогда не был вдохновлен чем-либо такого рода. Что означает следование российской литературной традиции? Единственная реальная российская литературная традиция — писать хорошие книги способом, которым никто не делал этого прежде. Чтобы стать частью традиции, Вы должны отказаться от нее — вот условие, необходимое, но не достаточное. Если Вы говорите об изображении уникального российского жизненного опыта, это — лишь другая комбинация тех же самых компонентов, из которых состоит уникальный французский или уникальный немецкий жизненный опыт, только смешанные в другой пропорции. Эти компоненты — страдание и радость, надежда и отчаяние, сострадание и высокомерие, слова любви, крики ненависти (я сейчас слушаю Genesis, извините) и т. д. Каждый из нас знаком с каждым из компонентов, именно поэтому Вы можете читать Антона Чехова, а я могу читать Кинки Фрайдмана. Но так как в непосредственном ощущении ваша жизнь — лишь краткий миг, имеющий место здесь и сейчас, Вы не можете чувствовать все эти компоненты одновременно. Вы можете испытывать (или описывать) их только последовательно, один за другим, таким образом воспроизводя существенное различие между различными национальными образами жизни, вполне статистическое. Оно может иметь значение в жизни, но не в книге. И даже в жизни оно имеет значение только если Вы придаете ему значение. Итак, нет ничего русского, которое было бы исключительно русским. Более того, русской темы не существует вовсе. Как и никакой другой национальной темы. Если Вы пробуете писать долго и последовательно о России, Вы не сможете сделать этого: даже если ваше первое предложение будет о России, второе и третье уже будут о чем-то ином. И, в конечном счете, когда Вы закончите книгу, окажется, что Вы написали о себе самом. В моей жизни я написал, пожалуй, максимум десять или двадцать предложений о России. Как всякий другой писатель на этой планете, я могу писать только о моем сознании. Однако, я понимаю, что большинство трогательных наивных понятий часто становятся наиболее эффективным оружием маркетинга, и когда невидимая рука дает Вам золотой палец на рассвете ваших дней, Вы вступаете в торжественное обязательство нести полки супермаркета внутри вашей головы всю оставшуюся жизнь. В этом отношении так называемый предмет — ничто в сравнении с искренней верой в существование реальности.
Читать дальше