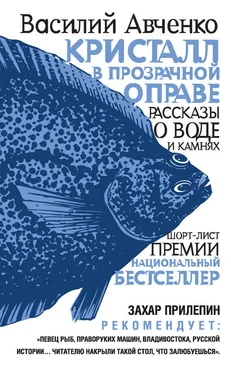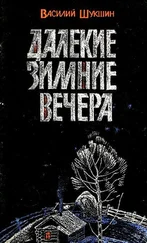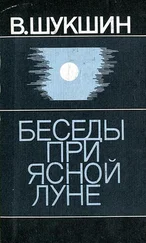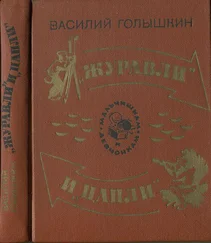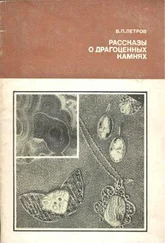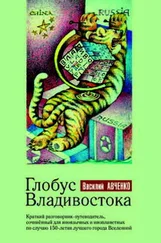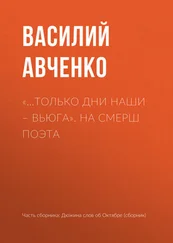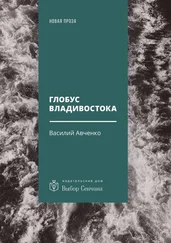Подобен янтарю жемчуг – тоже органического происхождения, тоже из воды. Возможно, русское название его – от татарского «зеньджу» или китайского «чжень-чжу». По составу тот же кальцит, но с красивейшими перламутровыми (по-немецки «перламутр» и значит «мать жемчуга») переливами. Жемчуг недолговечен. Из древних сокровищниц до наших дней не дожила, в отличие от древних алмазов, ни одна жемчужина.
У Ферсмана находим, что в России жемчуг добывали из «пресноводных раковин-перловок»; связано ли с этим название крупы перловки? Арсеньев писал о китайском жемчужном промысле в реках Приморья в начале XX века: «Держась за шест, упёртый одним концом в дно реки, китаец спускается по нему в воду и там спешно собирает раковины столько времени, сколько позволяет ему дыхание». Из 50 добытых раковин, указывал Арсеньев, «приблизительно одна» оказывалась с жемчугом.
* * *
Камни можно перечислять бесконечно. Я не стану этого делать, предпочтя заведомую отрывочность недостижимой полноте. Иначе окажусь погребён под массой специальных минералогических сведений, да и составлять нечто вроде дилетантского геологического словаря нет смысла – любая информация за секунды отыскивается в интернете.
Всплыла в памяти пара: «титанит – сфен». Этот минерал, состоящий из космического металла титана и чего-то ещё, имеет два названия-синонима – и я это зачем-то помню. Не говоря о более простых синонимических парах «флюорит – плавиковый шпат» или «галит – каменная соль». Сколько, оказывается, осталось в памяти от детского увлечения. Может быть, потому это так и запомнилось, что запоминалось в детстве. В более зрелом виде информация впечатывается уже не так глубоко, поддаваясь выветриванию. (Интересна генеалогия слова «выветривание»: произошло оно не от нашего «ветра», а от немецкой das Wetter – погода. И правда: в процессе выветривания куда большую роль играют вода и перепады температуры, чем собственно ветер.)
В детстве я хотел пойти в геологи, но потом решил, что не расположен к точным наукам – а геология всё-таки основана на точных науках, не на кострах с палатками. Если бы там была одна поэзия, я стал бы, конечно, геологом, но там оказалась и проза – математика и физика, с которыми я не был на «ты».
Геолог имеет дело с образованием морей, столкновениями и расхождениями континентов, вырастанием и рассыпанием хребтов – процессами куда масштабнее так называемых исторических. Их трудно вообразить. Поэтому геология – не только наука, но и научная фантастика.
Отец – тот давно вышел за рамки чистой геологии; не просто геолог, но философ от геологии, пришедший от материализма к идеализму. Мыслитель в старом русском смысле, думающий о происхождении человека и Земли, связи всего существующего. Докторская отца называлась «Гранатсодержащие минеральные равновесия и условия образования метаморфических горных пород», кандидатская – «Петрология Охотского метаморфического комплекса». Земля, выходит, тоже комплексует. В названии лаборатории отца – «метаморфических и метасоматических формаций» – мне всегда слышалось «метафорических». Или же вовсе – «метафизических»…
На моё решение отказаться от геологической профессии повлияло ещё представление о том, что дети не должны идти по стопам родителей, что профессиональные династии – признак душевной лени. Человек повторяет путь родителя не потому, что у него «наследственное» призвание к той же области, но потому, что он подражает родителю или пользуется родительским «блатом» в данной сфере.
Теперь я пытаюсь играть словами. Возможно, я выбрал неправильный путь – играть условностями, химерами, которые сами по себе не означают абсолютно ничего, это мы наделяем их смыслами. Лучше бы я занимался игрой с камнями – весомыми, реальными, объективными, которые существуют на самом деле, а не только в наших наивных представлениях.
У меня хранится большой кристалл мориона, который я нашёл в Якутии в 1992-м. Мне было тогда 12, сейчас – между 30 и 40. Я прожил уже около трети своего земного срока, а кристалл этот не то что не изменился – даже не заметил двадцати-с-лишним-летнего мига. Камни заставляют смотреть на жизнь по-другому. У камней иной масштаб. «Сколько понадобилось веков для того, чтобы разрушить твёрдую горную породу и превратить её в песок? Сколько понадобилось времени, чтобы песчинка за песчинкой заполнить залив и вытеснить морскую воду?» – писал офицер и (на самом деле) поэт Арсеньев. Геологические временные промежутки сопоставимы с космическими расстояниями.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу