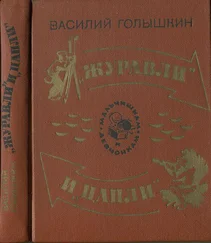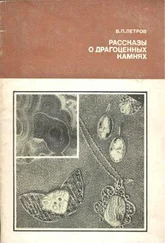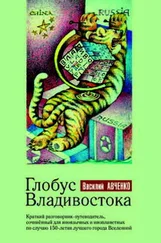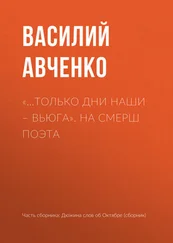Есть обычай освящать воду. Вода сама способна освящать. Она священна по определению. Рассказывая об умении удэгейцев плавать на долблёных лодках по горным речкам, Арсеньев называл их «полурыбами, полувыдрами», но замечал, что плавать они не умеют, и вот почему: «Никто из них никогда не купается, потому что не хочет осквернять воду». То же – у чукчей, свидетельствовал Рытхэу: «Среди приморских жителей… существовало поверье, что человека, попавшего в воду, не надо спасать, – это Дух Моря просит человеческую жертву».
Вода моет, то есть очищает (высшая мера очищения – великий потоп), и ещё растворяет – не уничтожает, а принимает в себя, переводя в иное состояние. «Беловодье» – земной рай, который искали староверы. Живая и мёртвая вода из сказок. Золотой храм – Кинкаку-дзи в Киото, расположенный посреди озера, рукотворный самородок, окружённый водой и отражающийся в ней.
Через океан очень легко понять, что такое бесконечность и вечность. Легко осознать собственное ничтожество перед космосом и океаном, который я понимаю как модель космоса. Это ощущение собственного ничтожества бывает необходимым и даже спасительным.
Море даёт понимание подлинного масштаба человека, не унижая его. Ощущение своего ничтожества по сравнению с морем получается не гнетущим, а светлым, успокаивающим, примиряющим с быстротечностью собственной жизни и безальтернативностью её завершения. Целые планеты живут и умирают, вселенные гибнут и рождаются снова, а я, песчинка, ещё чего-то хочу от этого мира; мир и без меня целен и прекрасен. Он терпит меня, поскольку я ему безразличен в силу своей незначительности. Безразличен, как ещё одна морская звёздочка на дне. Моя жизнь представляет ценность для меня самого, но когда я перестану быть, мир этого не заметит. Закат на Амурском заливе, который я каждый вечер вижу из окна и на который никогда не насмотрюсь, будет гореть ещё долго после того, как от меня не останется никаких следов. Что там от меня – от города, от цивилизации.
У «верхних людей», к которым, как верят коренные приморцы, мы уходим после смерти, рыбалка никогда не заканчивается. Мы пришли из моря – и в море уйдём. Мне всё равно, что будет со мной после смерти. Это всего лишь тело, и, умерев, оно ничем не будет отличаться от земли или древесины. Черви в земле, огонь в печи – какая разница; но мне было бы тепло от мысли, что моё тело после смерти достанется рыбам, всегда чистым безмолвным существам. Тем самым я бы отблагодарил их за всё, что они для меня сделали. Быть съеденным крабами или рыбами (как, собственно, и земляными червями, хоть это звучит грубее и грязнее – на наш слух, но тем хуже для нашего слуха) означает всего лишь влиться вновь в океан всемирного единства. Это прекрасный и мистический ритуал, на который не жалко отдать своё, тем более отслужившее тело.
Если бы я верил в переселение душ, меня бы грела перспектива когда-нибудь превратиться в красивую серебристую рыбу, рождённую плавать и молчать.
Эту страсть я заново открыл для себя уже взрослым.
По-моему, это случилось в Дальнегорске – горняцком «моногородке», где добывают свинец, цинк («полиметаллические руды») и бор. Старожил что-то рассказывал за пивом, и вдруг в голове моей стали вспыхивать слова, которые, казалось мне, давно позабыты. Когда он упомянул добычу олова, я напрягся и неожиданно чётко произнёс непривычные звуки:
– Касситерит!
Он заговорил о боре, и я медленно, но внятно сказал – едва ли не по складам, как человек, к которому вернулся дар речи или напрочь забытый иностранный язык:
– Датолит!
Старожил приятно удивлялся. Я тоже удивлялся – тому, что я всё это прекрасно помню. Что на язык мой спустились магические, не всем известные или даже не всем разрешённые слова. Что расплавы и растворы, бродившие годами, вдруг перешли к кристаллизации.
Сердце на скалах, рыбы на соснах…
Илья Лагутенко. «Морская болезнь»
Вещи мне безразличны. У меня нет ни планшета, ни даже костюма. Я могу восхищаться машинами или оружием, но это не потребительское, а эстетическое восхищение: машины красивы, оружие красиво. Эту красоту создаёт заложенная в них функциональность: двигаться быстро, убивать эффективно.
Но камни – это особое. Они действуют на меня так, как не действует ничто. С камнями у меня давние интимные отношения. На всё окружавшее меня я смотрел сквозь магические кристаллы счастливого советского геологического детства. Через камни развивалось моё эстетическое чувство – ещё когда я был совершенно равнодушен к живописи или красотам природы, включая даже море. Словосочетание «драгоценные камни» меня всегда раздражало: это определение указывает на стоимость, тогда как камни просто красивы, и первично именно это, а не то, какую цену им установили люди. Красивы не только gems – «драгоценные», какие-нибудь «элитные» сапфиры с изумрудами, но и все остальные – рудные, нерудные, вплоть до глины или песка, не говоря уже о сдержанной имперской красоты граните или об испещрённом вулканическими оспинами базальте, хранящем на себе шрамы тяжёлого, раскалённо-жидкого прошлого.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу