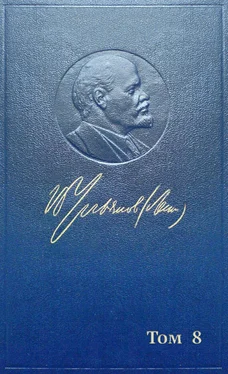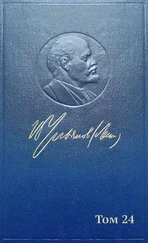Из прений по аграрной программе ясно видна борьба искровцев против добрых двух пятых съезда. Кавказские делегаты занимали тут совершенно правильную позицию, – в значительной степени, вероятно, благодаря тому, что близкое знакомство с местными формами многочисленных остатков крепостничества предостерегало их от абстрактно-школьнических голых противоположений, удовлетворявших Маховых. Против Мартынова и Либера, Махова и Егорова ополчались и Плеханов, и Гусев (подтверждающий, что «такой пессимистический взгляд на нашу работу в деревне»… как взгляд тов. Егорова… ему «приходилось встречать нередко среди действовавших в России товарищей»), и Костров, и Карский, и Троцкий. Последний правильно указывает, что «благожелательные советы» критиков аграрной программы «слишком отдают филистерством». Надо заметить лишь к вопросу об изучении политических группировок на съезде, что в этом месте его речи (страница 208) едва ли правильно поставлен рядом с Егоровым и Маховым товарищ Ланге. Кто внимательно прочтет протоколы, тот увидит, что Ланге и Горин занимают совсем не ту позицию, какую занимают Егоров и Махов. Ланге и Горину не нравится формулировка пункта об отрезках, они понимают вполне идею нашей аграрной программы, пытаясь иначе провести ее в жизнь, работая положительно над тем, чтобы подыскать более безупречную, с их точки зрения, формулировку, внося проекты резолюций с тем, чтобы убедить авторов программы или встать на их сторону против всех не искровцев. Достаточно сравнить, напр., предложения Махова об отклонении всей аграрной программы (стр. 212, за девять, против 38) и ее отдельных пунктов (стр. 216 и др.) с позицией Ланге, вносящего самостоятельную редакцию пункта об отрезках (стр. 225), чтобы убедиться в коренном различии между ними [66].
Говоря дальше о доводах, отдающих «филистерством», тов. Троцкий указал, что «в наступающий революционный период мы должны связать себя с крестьянством»… «Пред лицом этой задачи скептицизм и политическая «дальновидность» Махова и Егорова вреднее всякой близорукости». Тов. Костич, другой искровец меньшинства, очень метко указал на «неуверенность в себе, в своей принципиальной устойчивости» со стороны тов. Махова, – характеристика, попадающая не в бровь, а в глаз нашему «центру». «В пессимизме тов. Махов сошелся с тов. Егоровым, хотя между ними есть оттенки, – продолжал тов. Костич. – Он забывает, что уже в данное время социал-демократы работают в крестьянстве, уже руководят их движением в той мере, как это возможно. И этим своим пессимизмом они суживают размах нашей работы» (стр. 210).
Чтобы покончить с вопросом о программных прениях на съезде, стоит отметить еще краткие дебаты о поддержке оппозиционных течений. В нашей программе ясно сказано, что социал-демократическая партия поддерживает «всякое оппозиционное и революционное движение, направленное против существующего в России общественного и политического порядка» {99}. Казалось бы, эта последняя оговорка достаточно точно показывает, какие именно из оппозиционных течений мы поддерживаем. Тем не менее различие оттенков, давно уже сложившихся в нашей партии, сразу обнаружилось и тут, как ни трудно было предположить, что возможны еще «недоумения и недоразумения» по вопросу, до такой степени разжеванному! Дело было, очевидно, именно не в недоразумениях, а в оттенках. Махов, Либер и Мартынов сейчас же забили тревогу и опять-таки оказались в таком «компактном» меньшинстве, что тов. Мартову пришлось бы, пожалуй, и здесь объяснять это интригой, подстраиванием, дипломатией и прочими милыми вещами (см. речь его на съезде Лиги), к которым прибегают люди, неспособные вдуматься в политические причины образования «компактных» групп и меньшинства и большинства.
Махов начинает опять с вульгарного упрощения марксизма. «У нас единственный революционный класс – пролетариат, – заявляет он, и из этого справедливого положения делает сейчас же несправедливый вывод: – остальные так себе, сбоку припека ( общий смех)… Да, сбоку припека и хотят только попользоваться. Я против того, чтобы их поддерживать» (с. 226). Бесподобная формулировка своей позиции тов. Маховым многих (из его сторонников) смутила, но по существу дела с ним сошлись и Либер и Мартынов, предлагая устранить слово «оппозиционное» или ограничить его добавлением «демократическое-оппозиционное». Против этой поправки Мартынова справедливо восстал Плеханов. «Мы должны критиковать либералов, – говорил он, – разоблачать их половинчатость. Это верно… Но, разоблачая узость и ограниченность всех других движений, кроме социал-демократического, мы обязаны разъяснять пролетариату, что по сравнению с абсолютизмом даже конституция, не дающая всеобщего избирательного права, есть шаг вперед и что поэтому он не должен предпочитать существующий порядок такой конституции». Товарищи Мартынов, Либер и Махов не соглашаются с этим и отстаивают свою позицию, на которую нападают Аксельрод, Старовер, Троцкий и еще раз Плеханов. Тов. Махов успел при этом еще раз побить самого себя. Сначала он сказал, что остальные классы (кроме пролетариата) «так себе» и он «против того, чтобы их поддерживать». Потом он смилостивился и признал, что, «будучи реакционной по существу, буржуазия часто бывает революционной, – когда, например, идет речь о борьбе с феодализмом и его остатками». «Но есть группы, – продолжал он, поправляясь еще раз из кулька в рогожку, – которые всегда (?) реакционны, – таковы ремесленники». Вот до каких перлов в принципиальном отношении договаривались те самые лидеры нашего «центра», которые потом с пеной у рта защищали старую редакцию! Именно ремесленники даже в Западной Европе, где цеховое устройство было так сильно, проявляли, как и другие мелкие буржуа в городах, особенную революционность в эпоху падения абсолютизма. Именно русскому социал-демократу особенно нелепо повторять, не подумавши, то, что говорят западные товарищи про теперешних ремесленников в эпоху, отстоящую на столетие и полустолетие от падения абсолютизма. В России реакционность ремесленников по сравнению с буржуазией в области политических вопросов является не более как шаблонно заученной фразой.
Читать дальше