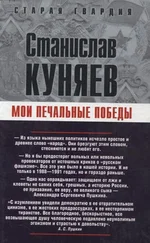И под снегом вечерним стоя,
Упаду на колени в снег
И во имя твоё святое
Поцелую вечерний снег
Там, где поступью величавой
Ты прошёл в гробовой тиши…
Свете Тихий! Святые Славы
Вседержитель моей души!
Эти стихи с цитатами из самой сокровенной молитвы если и не богохульство, то, конечно же, экзальтированное кощунство Серебряного века, свидетельство его богооставленности.
Иногда мне кажется, что на переломе двух веков в жизни просвещённых сословий Российской империи пышным цветом расцвели все человеческие пороки, накопленные в толщах истории. Революции, как волны, накатывались на страну одна за другой: антихристианская, антисемейная, антигосударственная, сексуальная, экономическая… И, конечно же, феминистская, подготовленная поколением Аполлинарии Сусловой, Авдотьи Панаевой, Огарёвой-Тучковой, Ольгой Сократовной Чернышевской и прочими их клонами, вытеснившими из жизни женщин склада Натальи Гончаровой, Татьяны Лариной, Китти Левиной, Софьи Толстой, богобоязненных героинь из романов Гончарова, из пьес Александра Николаевича Островского.
Отнюдь не пресловутый «заговор большевиков» разрушал социальные и нравственные основы жизни, а труды и лекции высоколобых интеллектуалов того же Серебряного века: С. Булгакова, А. Богданова, А. Луначарского, Н. Бердяева.
Стены канонического православия начали обваливаться не только от богохульства Емельяна Ярославского и Демьяна Бедного, а во многом и от деятельности модных реформаторов христианства: Л. Толстого, В. Розанова, Д. Мережковского. Врубель с «мирискусниками» и Скрябин со Стравинским расшатывали традиционные основы русской живописной и музыкальной культуры.
Основы семейной нравственности и естественного, узаконенного свыше отношения полов подвергались поруганию усилиями не только А. Коллонтай, И. Арманд, Л. Рейснер и прочих «пламенных фурий» революции (это, кстати, случилось позже), но и творческими изысками знаменитых поэтов и писателей обоего пола, чьи имена навечно вписаны в историю Серебряного века, который отнюдь не был продолжением или развитием века Золотого, а, наоборот, был во всех отношениях смертельным его врагом — «ущербным веком», как назвал его Георгий Свиридов. И сколько бы ни клялись все выдающиеся персонажи Серебряного века в любви к Александру Сергеевичу Пушкину — символу века Золотого, — нельзя забывать о том, что великий поэт в конце жизни попал в сети, расставленные выродками из сатанинского содомитского клана, и догадывался, что имеет дело с бесами в людском обличье, когда писал старому гею Геккерену: «Вы отечески сводничали вашему незаконнорожденному или так называемому сыну… подобно бесстыдной старухе, вы подстерегали мою жену»… «бесчестный вы человек»… А чуть ли не все знаменитые имена Серебряного века культивировали, насаждали и бесстыдно воспевали в свою эпоху не только содомитство, но все букеты пороков, осуждённых всеми религиями мира. Так что они были не продолжателями пушкинского дела, не его потомками, а по существу прямыми его врагами, «грязною толпой» и «наперсниками разврата», по словам Михаила Лермонтова. Даже лучшие из них относились к Пушкину с предельным легкомыслием, восхищаясь им лишь как учеником Парн иили читателем Апулея… Даже Марина Цветаева с её несравненным талантом хотела знать лишь «моего Пушкина», забыв о речи Достоевского, в которой Пушкин явлен не только общероссийским «нашим», но и всемирным достоянием. Один Александр Блок попытался в 1921 году в речи «О назначении поэта» вернуться к незыблемой шкале ценностей, но по существу не был услышан. Даже в мелочах, казалось бы, в пустяках, в смешной фамильярности фигура Пушкина вольно или невольно «умалялась» детьми Серебряного века… В семье Мандельштамов его называли, как своего партнёра, «Пушняк», что напоминает мне нравы «оттепельной семьи» известного детского поэта Сергея Козлова и его жены Татьяны Глушковой, где Александр Сергеевич именовался не иначе, как «Пуша». И даже в блистательных размышлениях Марины Цветаевой о Пушкине её влечёт к поэту лишь та его сущность, которая заключена в якобы его главном откровении:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья…
«Пушкин говорит о гибели ради гибели и её блаженстве»; «страсть всякого поэта к мятежу»; «Пушкину я обязана своей страстью к мятежникам»… Страстность, с которой Цветаева восторгается Пушкиным-мятежником, восхитительна. Но в этом восторге нет места Пушкину, созидающему историю, культуру, язык, нравственность, нет места Пушкину, испытывавшему порывы к смирению перед Высшей Волей, к святости, к осуждению мятежников всех времён, для коих, как писал он, «чужая душа полушка и своя шейка копейка». В цветаевском «Пушкине» нет ничего от понимания пушкинской поэмы «Цыганы» Достоевским. Там, где Цветаева восхищается бунтом пушкинских героев, сверхчеловеком, мода на которого была тотальной в её эпоху, Достоевский видит «русское решение вопроса, проклятого вопроса по народной вере и правде: «Смирись, гордый человек, и, прежде всего, сломи свою гордыню. Смирись, праздный человек, и, прежде всего, потрудись на родной ниве». Но «пир во время чумы» и «гордыня» были ближе дщери Серебряного века Марине Цветаевой, нежели достоевское, евангельское толкование Пушкина, которого она воспринимала чуть ли не как своего современника, гениального декадента, достойного быть персонажем «Поэмы без героя»:
Читать дальше