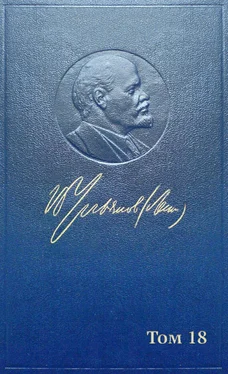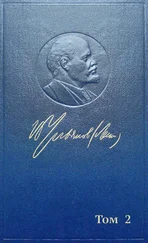Рассуждения Богданова в 1899 году о «неизменной сущности вещей», рассуждения Валентинова и Юшкевича о «субстанции» и т. д. – все это такие же плоды незнания диалектики. Неизменно, с точки зрения Энгельса, только одно: это – отражение человеческим сознанием (когда существует человеческое сознание) независимо от него существующего и развивающегося внешнего мира. Никакой другой «неизменности», никакой другой «сущности», никакой «абсолютной субстанции» в том смысле, в каком разрисовала эти понятия праздная профессорская философия, для Маркса и Энгельса не существует. «Сущность» вещей или «субстанция» тоже относительны; они выражают только углубление человеческого познания объектов, и если вчера это углубление не шло дальше атома, сегодня – дальше электрона и эфира, то диалектический материализм настаивает на временном, относительном, приблизительном характере всех этих вех познания природы прогрессирующей наукой человека. Электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна, но она бесконечно существует, и вот это-то единственно категорическое, единственно безусловное признание ее существования вне сознания и ощущения человека и отличает диалектический материализм от релятивистского агностицизма и идеализма.
Приведем два примера того, как новая физика колеблется бессознательно и стихийно между диалектическим материализмом, который остается неизвестным для буржуазных ученых, и «феноменализмом» с его неизбежными субъективистскими (а далее и прямо фидеистическими) выводами.
Тот самый Август Риги, которого г. Валентинов не сумел спросить насчет интересовавшего его вопроса о материализме, пишет в введении к своей книге: «Что собственно такое электроны или электрические атомы, это и поныне остается тайной; но, несмотря на это, новой теории суждено, может быть, приобрести со временем немалое философское значение, поскольку она приходит к совершенно новым посылкам относительно строения весомой материи и стремится свести все явления внешнего мира к одному общему происхождению.
«С точки зрения позитивистских и утилитаристских тенденций нашего времени подобное преимущество, пожалуй, не важно, и теория может быть признаваема прежде всего за средство удобным образом приводить в порядок и сопоставлять факты, служить руководством при поисках дальнейших явлений. Но если в прежние времена относились, может быть, с слишком большим доверием к способностям человеческого духа и слишком легко мнили руками взять последние причины всех вещей, то в наше время есть склонность впадать в противоположную ошибку» (1. с, S. 3).
Почему отгораживается здесь Риги от позитивистских и утилитаристских тенденций? Потому, что он, не имея, видимо, никакой определенной философской точки зрения, стихийно держится за реальность внешнего мира и за признание новой теории не только «удобством» (Пуанкаре), не только «эмпириосимволом» (Юшкевич), не только «гармонизацией опыта» (Богданов) и как там еще зовут подобные субъективистские выверты, а дальнейшим шагом в познании объективной реальности. Если бы этот физик познакомился с диалектическим материализмом, его суждение об ошибке, противоположной старому метафизическому материализму, стало бы, может быть, исходным пунктом правильной философии. Но вся обстановка, в которой живут эти люди, отталкивает их от Маркса и Энгельса, бросает в объятия пошлой казенной философии.
Рей тоже абсолютно не знаком с диалектикой. Но и он вынужден констатировать, что среди новейших физиков есть продолжатели традиций «механизма» (т. е. материализма). По пути «механизма», – говорит он, – идут не только Кирхгоф, Герц, Больцман, Максвелл, Гельмгольц, лорд Кельвин. «Чистыми механистами и с известной точки зрения более механистами, чем кто бы то ни было, представляющими из себя последнее слово (l'aboutissant) механизма, являются те, кто вслед за Лоренцом и Лармором формулируют электрическую теорию материи и приходят к отрицанию постоянства массы, объявляя ее функцией движения. Все они механисты, ибо они за исходный пункт берут реальные движения» (курсив Рея, р. 290–291).
«…Если бы новые гипотезы Лоренца, Лармора и Ланжевена (Langevin) подтвердились опытом и приобрели достаточно прочную базу для систематизации физики, то было бы несомненно, что законы современной механики зависят от законов электромагнетизма; законы механики были бы особым случаем и были бы ограничены строго определенными пределами. Постоянство массы, наш принцип инерции сохранили бы силу только для средних скоростей тел, понимая термин «средний» в отношении к нашим чувствам и к явлениям, составляющим наш обычный опыт. Общая переделка механики стала бы необходима, а следовательно, и общая переделка физики как системы.
Читать дальше