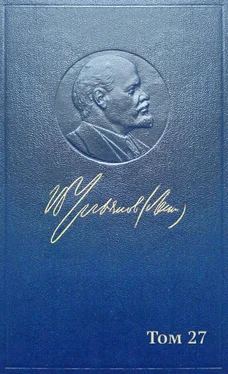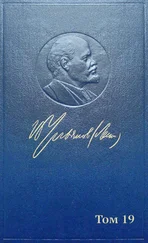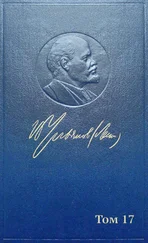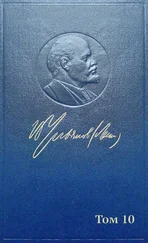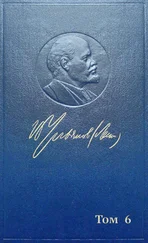Теперь мы снова идем к революции. Это все видят. Сам Хвостов говорит о настроении крестьян, напоминающем 1905–1906 годы. И опять перед нами те же две линии революции, то же соотношение классов, только видоизмененное изменившейся международной обстановкой. В 1905 г. вся европейская буржуазия была за царизм и помогала ему кто миллиардами (французы), кто – подготовкой контрреволюционной армии (немцы). В 1914 г. разгорелась европейская война; буржуазия повсюду победила, на время, пролетариат, захлестнула его мутным потоком национализма и шовинизма. В России мелкобуржуазные народные массы, главным образом крестьянство, составляют по-прежнему большинство населения. Они угнетены в первую голову помещиками. Они политически частью спят, частью колеблются между шовинизмом («победа над Германией», «оборона отечества») и революционностью. Политическими выразителями этих масс – и этих колебаний – являются, с одной стороны, народники (трудовики и социал-революционеры), с другой – оппортунисты социал-демократы («Наше Дело», Плеханов, фракция Чхеидзе, OK), которые с 1910 года решительно покатились по дорожке либеральной рабочей политики и к 1915 году докатились до социал-шовинизма гг. Потресова, Череванина, Левицкого, Маслова или до требования «единства» с ними.
Из этого фактического положения вытекает с очевидностью задача пролетариата. Беззаветно смелая революционная борьба против монархии (лозунги конференции января 1912 г. {44}, «три кита»), – борьба, увлекающая за собой все демократические массы, т. е., главным образом, крестьянство. А вместе с тем беспощадная борьба с шовинизмом, борьба за социалистическую революцию Европы в союзе с ее пролетариатом. Колебания мелкой буржуазии не случайны, а неизбежны, они вытекают из ее классового положения. Военный кризис усилил экономические и политические факторы, толкающие ее – и крестьянство в том числе – влево. В этом объективная основа полной возможности победы демократической революции в России. Что в Западной Европе вполне созрели объективные условия социалистической революции, этого нам нет надобности доказывать здесь; это признавали до войны все влиятельные социалисты во всех передовых странах.
Выяснить соотношение классов в предстоящей революции – главная задача революционной партии. От этой задачи уклоняется OK, который в России остается верным союзником «Нашего Дела» и за границей бросает ничего не значащие «левые» фразы. Эту задачу неправильно решает в «Нашем Слове» Троцкий, повторяющий свою «оригинальную» теорию 1905 года и не желающий подумать о том, в силу каких причин жизнь шла целых десять лет мимо этой прекрасной теории.
Оригинальная теория Троцкого берет у большевиков призыв к решительной революционной борьбе пролетариата и к завоеванию им политической власти, а у меньшевиков – «отрицание» роли крестьянства. Крестьянство-де расслоилось, дифференцировалось; его возможная революционная роль все убывала; в России невозможна «национальная» революция: «мы живем в эпоху империализма», а «империализм противопоставляет не буржуазную нацию старому режиму, а пролетариат буржуазной нации».
Вот – забавный пример «игры в словечко»: империализм! Если в России уже противостоит пролетариат «буржуазной нации», тогда, значит, Россия стоит прямо перед социалистической революцией!! тогда неверен лозунг «конфискации помещичьих земель» (повторяемый Троцким в 1915 г. вслед за январской конференцией 1912 г.), тогда надо говорить не о «революционном рабочем», а о «рабочем социалистическом» правительстве!! До каких пределов доходит путаница у Троцкого, видно из его фразы, что решительностью пролетариат увлечет и «непролетарские (!) народные массы» (№ 217)!! Троцкий не подумал, что если пролетариат увлечет непролетарские массы деревни на конфискацию помещичьих земель и свергнет монархию, то это и будет завершением «национальной буржуазной революции» в России, это и будет революционно-демократической диктатурой пролетариата и крестьянства!
Все десятилетие – великое десятилетие – 1905–1915 гг. доказало наличность двух и только двух классовых линий русской революции. Расслоение крестьянства усилило классовую борьбу внутри него, пробудило очень многие политически спавшие элементы, приблизило к городскому пролетариату сельский (на особой его организации большевики настаивали с 1906 года и ввели это требование в резолюцию Стокгольмского, меньшевистского, съезда {45}). Но антагонизм «крестьянства» и Марковых – Романовых – Хвостовых усилился, возрос, обострился. Это такая очевидная истина, что даже тысячи фраз в десятках парижских статей Троцкого не «опровергнут» ее. Троцкий на деле помогает либеральным рабочим политикам России, которые под «отрицанием» роли крестьянства понимают нежелание поднимать крестьян на революцию!
Читать дальше