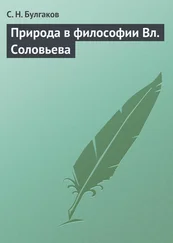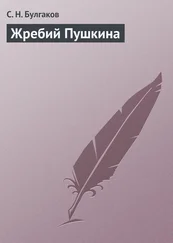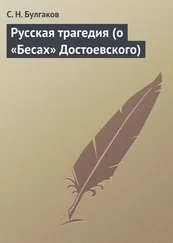Толстой похоронен был без церковных обрядов, согласно своим убеждениям и своему желанию. Как ни больно было для людей церковных пережить эти «гражданские похороны» великого русского человека (всю эту горечь и боль я испытал сам, идя за гробом Толстого), но было бы неизмеримо больнее и хуже, если бы случилось иначе и – путем компромиссов – были бы как-нибудь устроены похороны церковные. Ибо это не была бы любовь и примирение, но ложь , от которой при жизни столь отвращался Толстой. Это была бы, вместе с тем, кощунственная профанация величественного христианского погребения, которым Церковь напутствует своих сынов в иной мир. Весь «чин» погребения, плод вдохновения одного из величайших христианских поэтов, Иоанна Дамаскина, имеет в виду принадлежащих к Церкви и разделяющих её верования (главным образом в искупление). Теперь мы привыкли к этой лжи, ибо по церковному обряду хоронят лиц, заведомо не имевших церковной веры и лишь не подвергнутых церковному «отлучению». Толстой дал нам и здесь горький урок правдивости и последовательности.
Совершенно в таком же смысле должен быть разрешен и разрешился вопрос о служении православных панихид о нем. Как ни прискорбно для всех церковноверующих появление «гражданских панихид», но все-таки это лучше профанации церковных. Ведь и чин панихиды, представляющий сокращение погребения, также имеет в виду лишь принадлежащих к Церкви и разделяющих её верования [3]. И именно потому православные панихиды в отношении к Толстому неприменимы, как заведомая ложь, которая становится безразлична только при состоянии полного религиозного нигилизма, а следовательно и глубокой чуждости Толстому.
Однако неприменимость панихидного чина вовсе не значит, что вообще невозможна церковная молитва о душе новопреставленного раба Божия Льва. А такая потребность, несомненно, существует, ибо есть не мало людей искренно-церковных, которые, хотя и келейно, но ведь не в разрыве же с Церковью, а сокровенно-церковно удовлетворяли и удовлетворяют этой своей духовной потребности. Дать ей церковно-общественное выражение мог бы только особый «чин» молитвы о лице, хотя и связанном с Церковью неизгладимой печатью крещения, но в своем сознании от неё отрекшемся. Я убежден, что широта любви церковной [4]дает место такому чину, но где же тот авторитетный орган, который мог бы теперь принять на себя эту ответственную инициативу, не порождая новой взаимной вражды и недоразумений? Если на это могла бы решиться соборная власть церковная или же прямо собор, то, конечно, лучше и не брать на себя подобной инициативы теперешней организации этой власти. Но, конечно, слово примиряющее, ободряющее, призывающее хотя к уединенной, если не общественной, молитве об усопшем могла бы произнести и теперешняя церковная власть, особенно после того, как она проявила так много внимания к умирающему. И здесь Толстой оказался как бы историческим зеркалом, средством самодиагноза. Когда испытывается потребность в движении, то сильнее чувствуется тот «паралич» церковной жизни, который констатировал Достоевский вместе с рядом других независимых и искренних сынов Церкви. Жизнь дает нам горькие уроки, и Толстому суждено было стать орудием такой исторической кары. И поэтому нам надо отнестись к происшедшему не с фанатическим ожесточением, а с строгой самопроверкой и чувством исторической ответственности. Но больше всего приходится жалеть самого почившего, которому так и не удалось прорваться за магический круг враждебности к Церкви, – увы! – им самим около себя очерченный…
Толстой был великим художником слова, и, как таковой, долгое время он естественно считал высшим призванием своим служение искусству. Но когда он вступил на путь нового, религиозного самоопределения, пред ним стала задача, высшая, чем это служение, он почувствовал, что отныне он должен перестроить свою жизнь, стать художником своей собственной души. И перед этой религиозной задачей, которая одинаково становится пред всяким, в ком совершилось религиозное пробуждение, независимо от степени одаренности, и его художественный дар, страшный своею ответственностью, должен был стать под религиозный самоконтроль, сделаться орудием Высшей Воли. Человеческое по-прежнему стремилось идти своим собственным путем, но божеское искало подчинить себе это человеческое. Жизнь превратилась в аскетическое противоборство этих двух начал. Религиозная личность вступает в борьбу с человеческой гениальностью и усиливается либо поднять ее до себя и растворить в себе, либо совсем умертвить. Такую аскетическую драму мы не раз наблюдаем в жизни величайших художников: Гоголь, Достоевский, Толстой, художник Иванов, не говоря о наших современниках.
Читать дальше