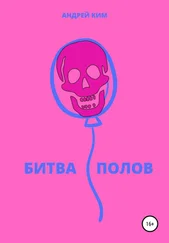«Новая газета» как раз готовилась к празднованию своего двадцатилетия. Редакция подозревала, что кто-нибудь захочет испортить им праздник, и обратилась за помощью к Алексею Афанасьеву, руководителю проекта DDoS Prevention «Лаборатории Касперского» {190}.
«Новая газета» никогда не была для «Лаборатории» легким клиентом, но Афанасьев, выросший во время перестройки, любил это издание, одним из акционеров которого был Михаил Горбачев. Афанасьев восхищался смелыми репортерами газеты и был всегда готов помочь им.
Поздним вечером 31 марта Афанасьев возвращался домой, когда ему позвонил коллега и сообщил, что «Новую газету» атакуют. В течение следующих нескольких часов DDoS усиливался, но сайт оставался доступен читателям газеты благодаря Афанасьеву и его команде, отсекавшей трафик атакующих.
На следующий день ситуация ухудшилась. Объем мусорного трафика резко вырос, а хакеры сменили тактику. Они запустили новый тип атаки – DNS Amplification (популярная форма DDoS, при которой атаке мусорными запросами подвергается DNS cервис). Следующие два дня трафик, атаковавший сайт «Новой газеты», в тысячу раз превосходил обычный объем {191}. «Атака положила два ЦОДа с нашим оборудованием для фильтрации входящего трафика», – вспоминал Алексей.
Очередной звонок от коллеги застал Афанасьева в компьютерном магазине, где он покупал какую-то железку. Новости были тревожные – атака становилась настолько мощной, что могла обрушить весь интернет в Москве. Тогда Афанасьев решил отрубить часть трафика, чтобы лишь московские пользователи имели доступ к сайту «Новой газеты».
К 3 апреля атака достигла неслыханных до сих пор объемов – в 60 гигабит в секунду.
«Лаборатория Касперского» обратилась за помощью к двум крупным операторам, попросив выделить cпециальный маршрут для трафика «Новой газеты» внутри московской сети. Те согласились, и это помогло изолировать сайт от атаки. В результате, несмотря на беспрецедентную армию ботов, которые производили гигантский объем мусорного трафика и во время атаки несколько раз меняли тактику, сайт «Новой газеты» был недоступен всего в течение трех часов на пике атаки {192}.
В марте 2013 года Роскомнадзор впервые атаковал социальные сети: Twitter получил требование заблокировать пять твитов и удалить один аккаунт за пропаганду наркотиков и самоубийства. 15 марта Twitter сообщил, что все выполнил {193}. По этому поводу Роскомнадзор выпустил заявление, где отметил, что удовлетворен «конструктивной позицией» Twitter {194}. Через две недели Роскомнадзор уведомил Facebook, что, если они не удалят страницу «Школы суицида» с шутками на тему самоубийства и карикатурами, сервис заблокируют. Сервис появился в российском черном списке, и Facebook поспешил закрыть «Школу суицида» {195}.
Постепенно Кремль расширял контроль над интернетом, и это была хорошо скоординированная операция. Роскомнадзор во главе с Жаровым и Ксензовым выпускал новые и новые предупреждения. В то же время Администрация президента проводила кулуарные встречи с интернет-компаний, вроде той, на которую пригласили Ирину Левову. Туда приходили и депутаты Госдумы, ответственные за разработку репрессивных законов.
15 мая 2013 года Ксензов представил Роскомнадзору отчет за прошедший год. По тону доклада было очевидно, что Ксензов уверен в успешности выбранной тактики. Сопротивление интернет-провайдеров и пользователей было слабым. Лишь одна мысль беспокоила Ксензова: а что, если люди научаться обходить цензуру и смогут обманывать систему фильтрации. Ведь для этого существует целый ряд способов, «которые относительно просты в применении…» Впрочем, он успокаивал себя: «Тот факт, что для операторов веб-сайтов и конечных пользователей технически возможно обойти блокирование, не означает, что на практике они будут это делать повсеместно» {196}.
Жаров был еще более оптимистичен. «Несмотря на громкие и подчас эпатажные выпады в отношении этих законодательных актов, в целом и законы, и работа с ними могут быть оценены положительно», – сказал он. И отметил, что «среди тысяч владельцев этих ресурсов нашлись единицы» тех, кто публично выступал против попадания в черный список. «Зафиксирован всего один случай обращения в суд», – похвастался он, а потом привел данные опроса общественного мнения, согласно которым 82 % опрошенных россиян поддержали закон о черных списках сайтов {197}.
Жаров и Ксензов нашли эффективный способ давления на интернет-компании, а те не смогли организовать достойное сопротивление. Интернет-компании не были готовы выступить против политики властей, как и много лет назад, когда государство внедряло СОРМ. То, с чем впервые столкнулся Левенчук, повторилось. Тогда провайдеры смирились с появлением черных ящиков на своих линиях, теперь – с установлением государственной цензуры.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
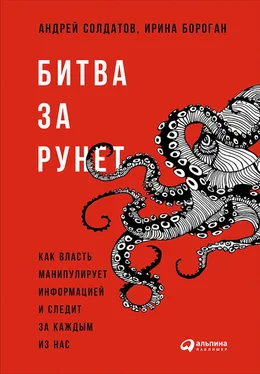
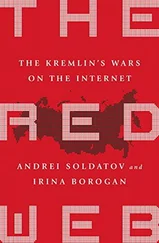
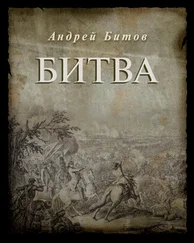
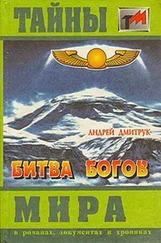
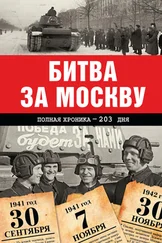
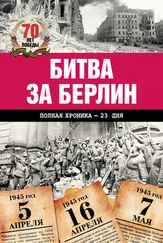
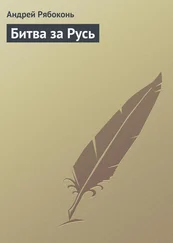
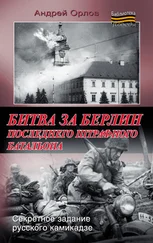

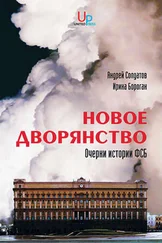
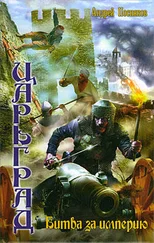
![Андрей Архипов - Битва за ресурсы [litres]](/books/391345/andrej-arhipov-bitva-za-resursy-litres-thumb.webp)