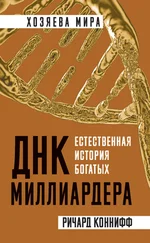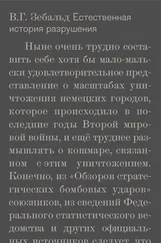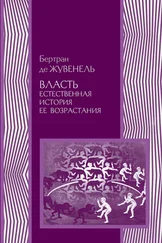В. Зебальд - Естественная история разрушения
Здесь есть возможность читать онлайн «В. Зебальд - Естественная история разрушения» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 2015, ISBN: 2015, Издательство: Литагент Новое издательство, Жанр: Публицистика, Прочая документальная литература, essay, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Естественная история разрушения
- Автор:
- Издательство:Литагент Новое издательство
- Жанр:
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-199-2
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Естественная история разрушения: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Естественная история разрушения»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Естественная история разрушения — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Естественная история разрушения», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Однако желание смерти, этот символ acedia cordis, то бишь душевного безразличия, никогда не было для Амери поводом смириться. Скорее оно побуждало его продолжать протест. Вышедший в 1974 году роман-эссе «Лефё, или Разрыв» являет собой поистине упрямый текст. Центральная фигура полувымышленного, полуавтобиографического повествования – художник, более не желающий или не способный приспосабливаться, un raté, неудачник, порывающий со своим окружением. Этот человек, по фамилии Лефё, сиречь «огонь», в годы так называемого Третьего рейха был депортирован в Германию на принудительные работы и стал очевидцем того, как человечество, шагнув в распахнутый Гитлером люк, «рухнуло в пустоту самоотрицания» [238]. Подобно Майеру-Амери, Лефё выжил, но и только. Выживание означает для Лефё обреченность на призрачное существование, поскольку в подлинном своем облике он по-прежнему обитает в городе мертвых. Примо Леви, некоторое время находившийся в Аушвице вместе с Амери, вполне конкретно описал этот город: Буна – так назывался вавилонский конгломерат, где наряду с немецкими управленцами и техниками трудились сорок тысяч рабочих, собранных из окрестных лагерей и говоривших на двадцати с лишним языках. Посредине города как его символ высилась построенная рабами карбидная башня, верхушку которой почти всегда заволакивала мгла [239]. Находясь в этом городе, где, как нам теперь известно, не было произведено ни фунта синтетического каучука, мы попадаем, если допустимо прибегнуть к метафоре, в тот круг Дантова ада, где странник «увидел стяг вдали, / Бежавший кругом, словно злая сила / Гнала его в крутящейся пыли; / Л вслед за ним столь длинная спешила / Чреда людей, что верилось с трудом, / Ужели смерть столь многих истребила» [240]. Удивление явленной власти смерти – вот что роднит аватара Лмери с Дантовым странником. Лефё – фигура аллегорическая: огнеборец и поджигатель. Его опыт простирается далеко за пределы жизни. Он, поджигатель, сидит на лесной опушке, смотрит сквозь ночь вниз, на город. И при этом представляет себе артефакт под названием «Paris brûle» [241], сотворение огненного моря. Здесь возникает проблема избавления посредством осуществления контрнасилия, о которой Амери, под влиянием Фанона, неоднократно размышлял. Амери спрашивал себя, как же получилось, что он, участник Сопротивления, едва не поплатившийся жизнью за изготовление и распространение нелегальной агитационной литературы, «так и не сумел полностью примириться с тем, что не боролся против угнетателя с оружием в руках» [242]. Отказ от насилия, невозможность найти путь к насилию даже ввиду экстремальной угрозы – вот один из центров терзаний Амери. Потому-то он на пробу отождествляет себя с пироманом, который носит в голове пылающий ярким пламенем город. Огонь, образцовое орудие карающей божественной силы, в конечном счете есть подлинная страсть поджигателя, приверженного здесь революционной фантазии, да, он – Лефё и, подобно ему, пожирает себя.
Сокрушенность сердца
О воспоминании и жестокости в творчестве Петера Вайса
L'homme a des endroits
de son pauvre coeur
gui n'existent pas encore
et où la douleur entre
afin qu'ils soient [243].
Леон БлуаКартина «Разносчик», созданная Петером Вайсом в 1940 году, изображает поднимающийся на среднем плане унылый промышленный ландшафт, на фоне которого примостился маленький цирк, придающий всей обстановке своеобразно аллегорический характер. На самом переднем плане, вполоборота к зрителю, как бы бросая прощальный взгляд назад, стоит молодой парень с лотком на животе и посохом в руке; наверно, он уже проделал долгий путь, а сейчас явно намерен двинуться вниз по крутой дороге к шатру, вход в который маркирует одновременно самое светлое и самое темное место картины. Белая поверхность брезента, освещенная закатным солнцем, окаймляет царящую внутри кромешную тьму, черное пространство, куда, кажется, неумолимо влечет бесприютную фигуру, что стоит здесь у начала своей дороги. Потребность зайти туда, где обитают те, кто уже не на свету и не в жизни, находит в этом автопортрете выражение, безусловно направленное на собственный конец. И впоследствии Вайс с упорством на грани мономании хранил верность набросанной здесь программе. Все его творчество – визит к умершим, в первую очередь к собственным близким: к слишком рано погибшей от несчастного случая сестре, которая не выходит у него из головы; к другу юности Ули, труп которого в 1940-м прибило к датскому берегу; к родителям, с которыми он не в силах окончательно расстаться, и наконец ко всем прочим обратившимся в прах и пепел жертвам истории. В пространной прозаической рапсодии, которую Вайс заносит в записную книжку в сентябре 1970 года, речь идет о предписанной ему встрече с умершими, о солидарности также и с теми, кто уже «сверхотчетливо несет в себе смерть и находится на пути к челну перевозчика, к Ахерону, уже слышит плеск весел и зов Харона» [244]. Процесс писательства, как Вайс трактует его здесь, в преддверии работы над «Эстетикой сопротивления», – это ведомая посредством перевода памяти в письмена непрестанная борьба против «искусства забвения» [245], столь же неотделимого от жизни, сколь печаль – от смерти. Писательство есть попытка наперекор «уверткам» и «приступам слабости» «балансировать меж живых, вместе со всеми умершими в нас, вместе с нашей скорбью, с собственной смертью перед глазами», чтобы задействовать память, ведь она одна оправдывает выживание в тени горы виновности. Но куда ярче любых других современных произведений творчество Петера Вайса свидетельствует, что по сравнению с соблазнами амнезии абстрактная память об умерших мало на что способна, коль скоро она в исследовании и реконструкции конкретного часа пытки не выказывает сострадания, выходящего за пределы простого сочувствия. В такой реконструкции взявший на себя обязательство вспоминать художественный субъект, как его трактует Вайс, не в последнюю очередь предпринимает и оперативные вмешательства в собственную личность, которые своей болезненностью в известной мере гарантируют продолжение воспоминания. Поэтому уже картины, которые Вайс пишет в первые годы эмиграции, руководствуясь нравственным импульсом, а не какой бы то ни было эстетической экстравагантностью, изобилуют изображениями чудовищнейших преступлений, что порой выливается в сценарии всеобъемлющей гибели цивилизации, сведенной варварством к пустому звуку. «Великий мировой театр» (1937), напоминая своей совершенно патологической хроматикой и выходящей в космос диспозицией «Победу Александра Македонского над Дарием» (1529) Альтдорфера, демонстрирует сущий пандемониум трансгрессии на фоне, декорированном тонущими кораблями и высвеченном заревом пожаров. Впрочем, идея катастрофы, которую Вайс развивает в подобных панорамах, не раскрывает эсхатологической перспективы, скорее, она знаменует разрушение, перешедшее в состояние перманентности. То, что обнаруживается здесь и сейчас, есть уже нижний мир, по ту сторону всякой природы, составленная из промышленных сооружений и машин, заводских труб, силосных башен, виадуков, глухих стен, лабиринтов, безлистных деревьев и дешевых ярмарочных аттракционов сюрреалистическая местность, где протагонисты ведут уже почти неживое существование как сугубо аутические души, лишенные истории. Фигуры написанного в 1938-м «Концерта в саду» с их опущенными веками, молодой чембалист с невидящим взглядом относятся к числу предвестников жизни, еще шевелящейся в ощущении боли, предвестников безоговорочной идентификации с презираемыми, осмеянными, искалеченными, тонущими в мечтаниях, с теми, что в слезах сидят по укрытиям, что от всего отказались и ничего после себя не оставили [246]. Неизбывная печаль, которая в третьем томе «Эстетики сопротивления» охватывает мать рассказчика, когда, скитаясь по восточным провинциям так называемого рейха, она невольно примеряет на себя судьбу тех, кто, «лишенный всяких притязаний, всякого достоинства, влачит существование в мире, состоящем из одних только погрузочных платформ, транспортных линий, перевалочных пунктов и пересыльных лагерей» [247], это абсолютно безмолвное уныние, в котором мать, как отмечает рассказчик, безвозвратно «удаляется от всего, чем мы себя окружили» [248]и ни единым звуком не выказывает замешательства, провоцирует у пишущего сына вопрос, уж не ведомо ли ей, женщине, потерявшей рассудок в Освенциме, «больше, чем нам, сохранившим рассудок» и, как написано в записных книжках, «не честнее ли молчание, отречение, нежели стремление всю жизнь создавать мемориал себе самому» [249]. Обрисованные таким образом сомнения перед лицом глубочайшей потрясенности заметны уже в автопортретах гнетущих времен эмиграции. На гуаши 1946 года предстает лицо, омраченное тяжкой меланхолией, тогда как в созданном примерно тогда же, выдержанном в холодных голубых тонах портрете преобладает сосредоточенная, прямо-таки невероятная интеллектуальная жизнестойкость. Испытующий взгляд, нацеленный на обнаружение правды и справедливости, неотрывно устремлен с картины на то, что должно заметить. Однако оба портрета роднит манера, в какой художник трактует собственное лицо – не столько соблюдая реалистическую верность деталям, сколько как плоскостное изображение, которому присуща определенная тяга к монументальному героизму, характерному для позднего литературного творчества Петера Вайса. В превращении травмированного субъекта в другую, непоколебимую личность, с одной стороны, утверждает себя воля к сопротивлению, с другой же – происходит что-то, что можно описать как уподобление бездушной системе, которая, как известно субъекту, грозит ему опасностью. Боязнь быть изрезанным и искалеченным преобразуется таким образом в генеративный элемент стратегии, посредством которой сам Вайс продолжает делать исследовательские надрезы на воплощенных инстанциях гнетущей реальности. Тема анатомии, которая занимает его в ту пору и будет занимать позднее, являет собой один из содержательных элементов, позволяющих наглядно продемонстрировать во многом проблематичный процесс перевода, о котором здесь идет речь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Естественная история разрушения»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Естественная история разрушения» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Естественная история разрушения» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.
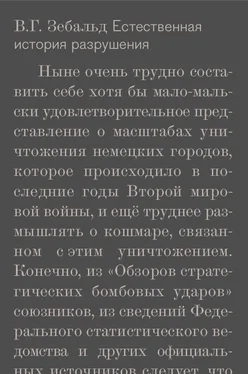
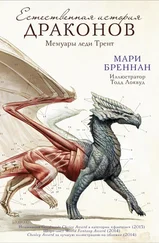


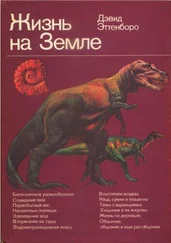
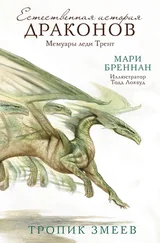
![Ричард Коннифф - ДНК миллиардера [Естественная история богатых] [litres]](/books/386722/richard-konniff-dnk-milliardera-estestvennaya-istor-thumb.webp)
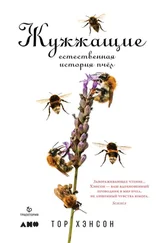
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Путешествие на «Василиске» [litres]](/books/420782/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)