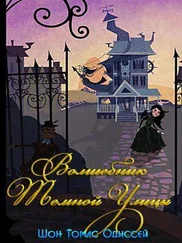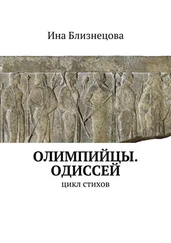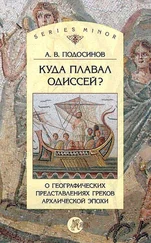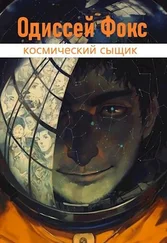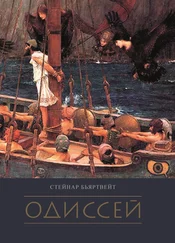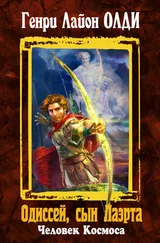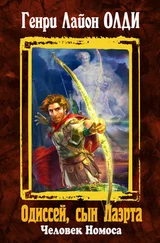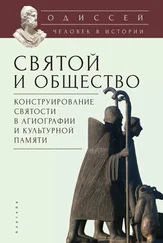'Одиссей' Журнал - 'Одиссей' за 1996 год
Здесь есть возможность читать онлайн «'Одиссей' Журнал - 'Одиссей' за 1996 год» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Публицистика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:'Одиссей' за 1996 год
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
'Одиссей' за 1996 год: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «'Одиссей' за 1996 год»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
'Одиссей' за 1996 год — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «'Одиссей' за 1996 год», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Текст автора предстает не как конечный результат творческой деятельности, а открытое, изменчивое, текучее пространство культурного (вербального или невербального) со-общения. Это пространство выражено особыми культурными знаками, символами, образами и обусловлено сущностными свойствами культурного бытия, автора текста, читателя. Реальность, создаваемая и передаваемая автором как культурная реальность, неотделима от процесса понимания, интерпретации и устанавливается в тексте во имя согласованной (в пределах правил культуры, парадигмы, эпистемы), интерсубъективной истинности .
В рассуждениях гуманитариев-антиобъективистов выстраивается следующая логическая цепочка: авторское намерение - процесс письма - авторский текст - чтение-письмо читателя. В процессе письма погибает авторское намерение. В тексте говорит язык, а не автор ("смерть автора", по выражению Р. Барта). Читатель переводит, интерпретирует этот язык, создавая тем самым свой, со-авторский текст. Проблема авторского намерения и авторского текста ставится и решается не как проблема автора (письма), а как проблема читателя (чтения-письма). Так происходит замещение проблемы "кто автор (каково его намерение)" вопросами "что такое этот текст" и "что такое интерпретация этого текс
^ Hcropuk в nouckax метода
та читателем". Отсюда и преимущественный интерес к читателю, который, входя в авторский текст, привносит туда себя .
Декларирование формального отношения к тексту и уравнивание в правах текстов научных, литературных, художественно-изобразительных, вербальных и невербальных открыло для поборников нового гуманитарного дискурса богатые возможности метакритики.
НАМЕРЕНИЕ И ТЕКСТ
Эти новации оказали сильное воздействие на суждения историков о сущности и результатах исторического исследования. Взгляд на историографический процесс с учетом подходов, формировавшихся в русле когнитивных наук (по выражению П. Новика, "кризис историцизма в конце XX в. носит когнитивный характер"), усложнил отношение к основаниям дисциплины "история", проблематизировал содержание труда историка и достоверность получаемого знания, адекватность его восприятия читателем.
Осознание историками во второй половине XX в. познавательных открытий философской герменевтики и так называемого лингвистического поворота, освоение ими возможностей современного психоанализа и постструктурализма, семиологии, литературной критики - все это содействовало переосмыслению слов, с помощью которых строились рассуждения многих поколений профессионалов: "история", "историческая реальность", "историческое исследование" ("исторический нарратив"), "историческое свидетельство" ("исторический источник").
Идея реконструкции истории "такой, какой она была", воссоздания ее с помощью правильной (истинной, верифицируемой) теории и научных (истинных) методов-способов постижения, объяснения реальности, - уступала место концепту гуманитарного дискурса, создаваемого в соответствии с заданным правилом - режимом истины (по выражению М. Фуко), выбранным жанром, языком, теорией и методом ради культурного сообщения. Устанавливалась зависимость между определенным типом дискурса (историческим нарративом) и способом культурной коммуникации . В целом, познание выглядело как со-общение, а общение как рефлексия.
Сосредоточение внимания историков на изучении самого процесса интеллектуальной деятельности, того, как авторское намерение соотносится с историческим нарративом (авторским текстом), как происходит акт творения понятий, целостностей (типа "средневековье", "Ренессанс", "Просвещение", "кризис XVII века", "промышленная революция" и пр.) из отобранных исследователем дискретных исторических фактов, наконец, каким образом в этом процессе историописания участвует читатель (одновременно выполняющий функции писателя и интерпретатора), актуализировало проблему репрезентации авторского текста и ее взаимосвязи с восприятием читателя. Эти задачи стали определять облик так
/~ И. Зверева. Реальность и исторически нарратив 15
называемой новой интеллектуальной истории, сформировавшейся как феномен в последней трети XX в.
Самоидентификация новой интеллектуальной истории связана с общностью понимания членами этого сообщества предмета изучения. Этот предмет - онтология текста, содержание формы. "Новых интеллектуалов" объединила привлекательная идея преодоления субъективизма средствами метакритики при исследовании творческой деятельности. В отличие от традиционной критики (понимаемой реформаторами как письмо, выражающее жизненный опыт критика, ценностные ориентации, с помощью которых он определенным образом объективирует произведение) метакритика претендовала на то, чтобы выглядеть как чтениеписьмо. В процессе этого чтения критик стремится отрешиться от желания раскрыть первосмысл и, по сути, утвердить свою власть над текстом. В рамках концепции метакритики базовую позицию заняло понятие деконструкции, трактуемое не как метод в традиционном его выражении, а как переживание культурного текста, способ текстуального бытия ".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «'Одиссей' за 1996 год»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «'Одиссей' за 1996 год» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «'Одиссей' за 1996 год» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.