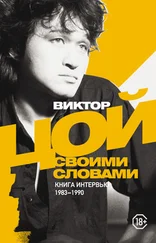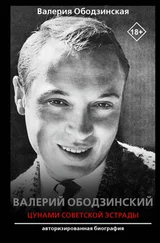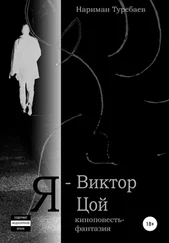1 ...8 9 10 12 13 14 ...21 Ветераны рассказывали, что с весны – лета 1938 года и государство стало лучше помогать. Привозили лес, пиломатериалы, стекло, краску, словом, многое из того, что требовалось для строительства. Пособляло и специалистами, в частности, оставил добрый след в артельных делах и в памяти колхозников прораб Алексей Емельянов. (Видимо, это был один из тех представителей рабочего класса промышленных центров страны, которых в те годы направляли на периферию налаживать советскую жизнь, проводить партийную линию на селе и поднимать сельское хозяйство. Они вошли в учебники по истории как двадцатипятитысячники – по числу посланцев).
У колхозников появилась надежда. Но грянула война. Она поставила под угрозу всё, что было добыто ценой огромных жертв и неимоверных усилий. Главное – отняла самых работоспособных людей. Молодых и здоровых мужчин мобилизовали в трудовую армию, в колхозе остались в основном старики, женщины, инвалиды, дети. И несколько человек по так называемой брони. Им пришлось взвалить на себя непосильную ношу – копать каналы и обрабатывать землю, сеять, полоть и выращивать рис, собирать и отправлять в закрома урожай.
Чтобы сдать зерно в счёт плана, надо было сначала его обрушить, то есть снять шелуху. Сейчас это легко делают мельницы, а тогда всё собранное раздавали по дворам, и каждая семья обмолачивала свою часть на корейской ступе – паи. Но прежде следовало рис-сырец очистить от зловредных зёрен курмяка, других сорных примесей. Делалось это вручную следующим образом: на середину низкого корейского стола горкой насыпалось зерно, вокруг садились все члены семьи, включая детей, и кто кусочком картона или фанеры, кто школьной линейкой (особенно удобна была треугольная) подгребали к себе горсть –другую зерна, пальцем вылавливали оттуда сор и сбрасывали его в чашечку, что стояла на подвёрнутых калачиком ногах. Так мешок за мешком. Сдавали государству отдельно цельный рис и дроблёнку – сечку. Калибровку делали опять же вручную с помощью специального сита, тоже изготовленного руками умельцев из листа жести, – оно пропускало мелочь, крупняк же оставался.
Война принесла колхозникам колоссальные трудности, но она и сплотила их. Люди творили чудеса. Только один факт. За грозовые годы посевные площади в колхозе выросли в четыре с лишним раза и превзошли тысячу гектаров! Откуда постоянно недоедавшие и недосыпавшие, до крайности истощенные люди находили силы – загадка для физиологов, психологов и… историков.
После войны хозяйство довольно быстро восстановилось и набрало силу. Прежние масштабы к 50-м годам стали тесны, и «III Интернационал» вобрал в себя два соседних колхоза – «Утренняя заря» и «Червонная земля». Теперь было где развернуться мощной технике, что стала поступать в колхоз. Площадь пахотных земель по сравнению с первым годом увеличилась почти в 120 раз, большую их часть составляли инженерно спланированные поля, то есть поля, «отутюженные» бульдозерами и грейдерами так тщательно, что перепад поверхности рисового чека площадью, скажем, в два гектара не превышал 3–5 сантиметров, иначе вода неровно заливала бы посевы, что в свою очередь плохо сказалось бы на развитии ростков, а значит, сборах зерна. Урожайность основной культуры – риса – поднялась в 8–10 раз.
Ветераны, которые знали жизнь в землянках и с чьих рук ещё не сошли мозоли от кетменей и лопат, успели поработать в колхозе, оснащённом современными тракторами, комбайнами, другими новейшими сельскохозяйственными машинами, имевшем фермы на 750 голов крупного рогатого скота и 100 свиней, кирпичный и асфальтовый заводы, швейную мастерскую, кулинарный и колбасный цеха, магазины. Хозяйство считалось в Казахстане одним из самых крепких и именитых, в числе немногих носило титул колхоза-миллионера.
Депортировать, чтоб распространить опыт?
В горестное для наших предков время нашла, как это часто бывает в жизни, подтверждение поговорка «Нет худа без добра». Страшный голод начала 30-х годов, усугубившийся перегибами в проведении коллективизации на местах и саботажем, унёс в Казахстане, по одним данным, 1,7 миллиона, а по другим – даже 2,2 миллиона жизней, заставил мигрировать в поисках лучшей доли 1 миллион 30 тысяч человек из шести миллионов населения. Старшее поколение видело жуткие картины – полностью вымершие аулы, присыпанные песком человеческие черепа и скелеты: хоронить покойников было некому.
Прибытие в этих обстоятельствах корейцев с Дальнего Востока оказалось своего рода палочкой-выручалочкой. Однако поначалу коренное население было сильно встревожено. В тот год по казахской степи «узун кулак» («длинное ухо») разносил: «Что-то теперь будет?!.. Привезли в товарных составах каких-то людей, по разрезу глаз и цвету волос похожих на нас, но одетых в странные белые одежды… Едят палочками… Рис варят без соли, а перед тем как отправить в рот, моют в воде… Чай не пьют… Овец не держат… Юрт у них нет, роют землю, как для могил, только шире, накрывают ямы камышом, обмазывают глиной и живут там… Приехали налегке, почти без ничего… Чем будут заниматься, чем питаться, как выживать?.. Не станут ли воровать, отнимать наше добро?.. Ой-бай!..»
Читать дальше
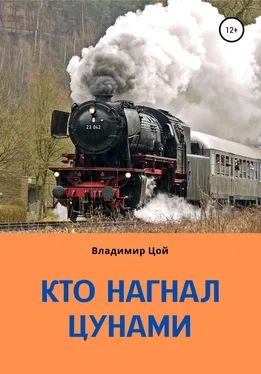
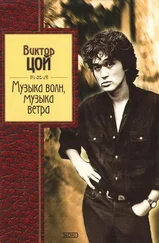

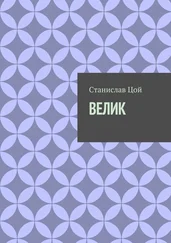
![Михаил Кубрин - На пути у цунами [litres]](/books/408034/mihail-kubrin-na-puti-u-cunami-litres-thumb.webp)
![Карен Бут - Цунами неумолимой страсти [litres]](/books/417062/karen-but-cunami-neumolimoj-strasti-litres-thumb.webp)
![Владимир Кривонос - Магнитное цунами [SelfPub, 16+]](/books/419415/vladimir-krivonos-magnitnoe-cunami-selfpub-16-thumb.webp)
![Владимир Стрельников - Операция «Цунами» [СИ]](/books/428387/vladimir-strelnikov-operaciya-cunami-si-thumb.webp)