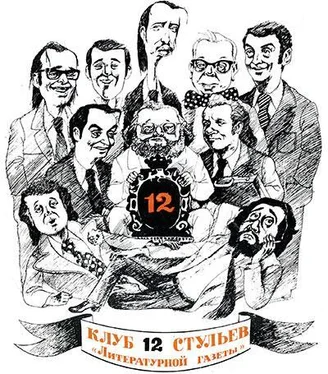Неудивительно, что Европа, в дверь которой не одно десятилетие скребётся Украина, заинтересована во взаимодействии с Россией. Вот и Венгрия всё с большим желанием учит русский язык. Соседняя же с Россией славянская страна с маниакальным мазохизмом борется с одним из величайших мировых, международных языков, на котором думает и говорит большая часть её населения. Украину не учит не то что опыт соседей, но и собственные роковые ошибки. Предыдущее наступление на русский язык закончилось уходом Крыма и восстанием Донбасса. Но снова в Верховной раде зарегистрировали сразу три законопроекта о тотальной украинизации всех сфер жизни общества и государства. Даже венгры – пассионарная, но прагматичная нация, не затерявшаяся в европейском строю, – ловят в свои паруса политический ветер. Это гораздо лучше, чем против ветра плевать.
Одесская область, Украина
Немного цифр
Социологические исследования, о которых сообщает Magyar Hílap, показывают, что три четверти (63%) венгров считают благоприятным визит президента Путина в Венгрию и лишь 20% не видят заинтересованности в нём своей страны. По мнению большинства венгров, нужно стремиться к взвешенным, обоюдовыгодным отношениям с Россией. 75% опрошенных хотело бы прагматичных отношений с Россией, и только 5% стоят на том, что «Венгрии не надо было бы пускаться в объяснения» с российским президентом. 18% респондентов думают, что нужно ещё более решительно стремиться к дружеским отношениям с Россией. Венгры не в восторге от антироссийских экономических санкций ЕС. Против них 47% венгров, 33% их одобряют.
Нам нужны не „буйные“, а „мудрые“
Нам нужны не „буйные“, а „мудрые“
Литература / Литература / Навстречу съезду
Малюкова Людмила
Шолохов бы заступился...
Фото: Николай Козловский
Теги:литературный процесс
Почему СП России безразличен к жизни писателей в регионах
Откровенно говоря, разговор о Союзе писателей России назрел давно. Но вопрос: быть ему или не быть едва ли правомерен. Вернее, вести речь о его функциях и задачах: каким он есть и должен быть.
С тех пор как русская словесность осознала себя, писательские сообщества возникали постоянно. Но вот что парадоксально: от распада их не спасали ни высокое покровительство, если они зиждились на закостенелых художественных формах, ни стремление к обновлению, если в действие включались механизмы идеологического порядка. Примером тому – неистовая борьба «шишкинистов» и «карамзинистов». Сегодня едва ли можно оспаривать, что необходима глубоко продуманная программа с учётом историко-литературного опыта, которая создавала бы единое культурное пространство. Нужны лидеры. ХIХ век выдвинул Пушкина, открывшего закон самодостаточности поэзии, сохранив за собой право оставаться государственным человеком. ХХ век с разрушением СССР похоронил под обломками догматический метод социалистического реализма. Но что взамен? Принцип «Свобода – то есть «от» и «для»» (А. Камю) утратил свою традиционную сдержанность, а аксиома «Культура и нация – едины» стала лишь воспоминанием. Я совсем не уверена в целесообразности нового Союза, состоящего «из различных эстетических и идеологических направлений» с «рядом привилегий за свой творческий труд», на который так надеется уважаемый критик Владимир Бондаренко. И дело даже не в слове идеология, скомпрометировавшем себя. Союз должен предполагать некоторое единство философско-эстетических, православных или других нравственных ценностей. Иначе он не союз.
Мне приходилось работать с документами «Союза русских писателей за рубежом». В результате открылась примечательная панорама. Уже в июле 1920 года в Париже Союз был создан. Не всё в нём было однозначно. На пост председателя избрали П.Н. Милюкова, позиция которого с начала Второй мировой войны сильно полевела. Его симпатии к победам СССР резко осуждались. Но Союз всё-таки устоял. Со дня основания работа велась колоссальная: на Первом съезде в 1928 году создана комиссия по изданию писательских сочинений, немногим позже – Русская книжная палата, Русский зарубежный исторический архив… Всего не перечислить. И конечно, подобно маяку, «светились» ориентиры: судьба России, её настоящее и грядущее. И как точка отсчёта – великий Пушкин. Трудно сказать, сколько членов по странам и континентам включал Союз. Сохранилась справка «по Чехии»: до 1932 года их число колеблется от 70 до 90 (27 профессоров, 26 поэтов, 28 прозаиков и публицистов). Но сколько сегодня членов в нашем писательском Союзе, страшно и представить, потому как их число постоянно катастрофически растёт. В зарубежных документах мне показалось актуальным высказывание профессора Н.И. Астрова. На вопрос: «Что влечёт в Союз лиц, столь разных по политическим и прочим направлениям, ведь материальных выгод никаких» он ответил: «Люди, работающие в области литературы, стремились общими усилиями создать условия, при которых можно осуществить дело их жизни – свободным словом творить художественные образы. В таком общении поддерживаются старые, добрые традиции русской литературной среды и создаются гарантии, их сохраняющие». Но есть ли в нашем Союзе сегодня такого рода «общения»? Во всяком случае, в регионах – большой вопрос. В условиях общего литературного обвала интеллектуальный уровень контингента весьма низок. Порою при приёме я задаю вопрос: «Кого вы знаете из современных писателей?» В ответ нередко молчание или упоминается кое-кто из местных.
Читать дальше