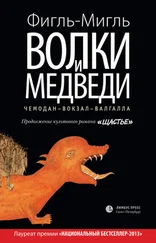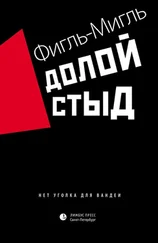Настоящее тоже имеет свою цену, но многие, трудолюбиво перенося его на бумагу, утрачивают самое главное: воодушевление жизни, её пафос. Стоит ли тогда морочиться, не проще ли овладеть искусством постановочной фотографии. Слова никогда не будут равнозначны картинке. Мало ли какие и у кого мысли пробудит нарисованное кресло, но всё же никто не назовёт кресло крепостью или облаком. (А что, хороший проект. Моё кресло – моя крепость. Или там закат и тучки, тучки, а приглядишься – антикварная мебель.) Но кресло в описании вообще перестаёт быть креслом, даже если кто-то на нём сидит (и Господь Бог сидит на облаке). Оно как нижняя часть кентавра. Все силятся понять, о чём думает кентавр. Нет чтобы посмотреть, как он бегает.
С одной стороны, с другой стороны, сколько же сторон у этого явления с ничего не объясняющим, сразу на всё указывающим названием. Жизнь людей, жизнь вещей. Может, и нет никакой иной жизни, кроме как на этой странице. Хочешь – думай и так, но не надо на всём таком излишне сосредоточиваться. Сколь гадким ни казалось бы окружающее, что-то в нём есть кроме грязи. А нет – так значит, должно быть. Сделай как положено, в соответствии с природой своего дарования.
Где тот средний царский путь, о существовании которого так долго и упорно твердила отечественная литература, бродившая при этом совсем иными путями. Поучительнее всего, когда кто-то выходит случайно на нужную дорогу, и не узнаёт её и мыслит при этом – на ходу, – что идёт по-прежнему лесом, степью, целиной, какими-то звериными тропами. Он замечает, что идти стало легче, но приписывает это собственной атлетической мощи, возросшей благодаря неустанным упражнениям. Даже когда уже целые толпы снуют туда-сюда и граф Клейнмихель кладёт шпалы-рельсы, он отказывается верить в их существование и идёт так, как шёл: один, без помощи и поддержки, без страха и надежды и с довольно-таки унылым видом, хотя снеговые сугробы и тундры вокруг давно сменились более приятным ландшафтом, нет необходимости глодать сухой хлеб и любить разрешено не только в лупанариях.
А всё равно он победитель, пусть и не может предъявить ни одного побеждённого, первопроходец без вспомогательного отряда туземцев, рыцарь без прекрасной дамы, ересиарх без ереси. Хер моего фасона. Хоть и противный, а всё-таки герой.
К вопросу о больших глазах
Кто обмирал и был на том свете, тому под большим страхом запрещено говорить три слова (неизвестно какие, задумчиво прибавляет Даль). Зато можно произнести (здесь стоическое спокойствие, пафос, самостоянье или то, что от них осталось) очень много других хороших слов, общий смысл которых будет сводиться… Ах, неважно. Думать, что слова говорятся не ради слов, могут только дети и неисцелимые.
Какое отношение к словам имеют сумрачные области сознания, где страх бродит на тараканьих ножках (не так они под ним хрупки, эти ноги)? Никакого. А сами слова какое отношение имеют к жизни? Наверное, отдалённое. Опосредованное. С неисцелимым в качестве посредника.
«Страх не относится к числу моих сильных сторон». Красиво сказано – для того мёртвый автор и старался. Кто-то думает, что описать, воплотить – равносильно победе. Мне больше не страшно, мне томно. Пусть так, но никто не летит за тобой в эту пропасть. Здравое большинство очень здраво полагает, что в метафизическую яму и упасть можно только метафизически, без некрасивых последствий: сломанных рук и ног, сломанной жизни. Да ведь её ещё нужно постараться найти, потому что здравый человек пройдёт над такой пропастью по воздуху как по твёрдой дорожке, погружённый в свои заботы или посвистывая и любуясь. Для него эти прогулки – гимнастика каждого дня, а ты всю жизнь совершаешь один-единственный малоудачный прыжок.
Всё это вздор; есть много простых, общих всем страхов «на всяку беду». Боязнь темноты, грозы, лихих людей на больших дорогах и самих этих дорог («чисто русский страх», говорит Бунин). Боязнь пространства и его отсутствия. Водобоязнь (новый акцент). В какой ужас приводят не вовремя протянутая рука, неуместный откровенный взгляд, улыбка, о значении которой не хочется думать. Сознание того, что «опасность» – всего лишь одно из имён жизни. Чёрный одинокий силуэт, неподвижный на фоне светлого подъезда, но приближающийся, потому что идёшь прямо к нему и наконец видишь: сосед выгуливает собаку, дружелюбные этим вечером гопники, крепкая тётка с метлой, вставший из могилы мертвец, от которого так и веет, веет. (В самой раскрытой могиле, кстати, как и в кладбищах вообще, нет ничего страшного: страх побеждён либо горем, либо любознательностью – не так чтобы очень острым интересом к судьбе метафизического Кая. Не смерть страшна, страшно умереть последним.)
Читать дальше