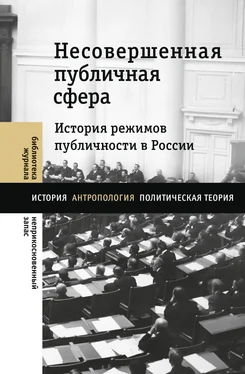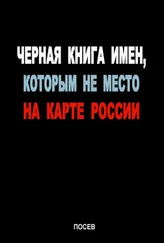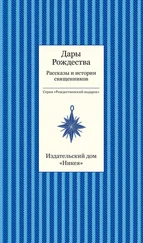Здесь уместно вспомнить модель студенческого спора в Оксфорде или Кембридже (или схоластического спора, упоминаемого Хабермасом), где предположительно равные по статусу и уровню образования молодые аристократы разделяют общие представления о правилах ведения осмысленной интеллектуальной дискуссии, хорошо понимают выпады друг друга и стараются сделать оригинальный ход, который было бы трудно отразить оппоненту. Речь идет об умственном фехтовании с соблюдением правил и своеобразной хореографии. Скиннеровское абстрагирование от медийного контекста и социально-политических различий статусов участников в пользу чисто языковой и интеллектуальной игры в данном случае отчасти оправданно, а отчасти незаметно для себя воспроизводит социальную модель подготовки политической элиты в ведущих британских университетах [72]. В этой традиции перформативность и политическая эффективность речи приписываются ее антропологической природе, которая не требует социального медиума. Подобное отождествление речи и социального действия представляется нам эвристическим для изучения сложившихся традиций политической философии, но оно становится слишком сильным упрощением при переносе в отечественный контекст. Здесь понимание того, что сказано, важно дополнить пониманием того, в какой ситуации, кем и кому это говорится.
Взгляд раннего Хабермаса предполагает, что политико-экономическая динамика и социальная структура коммуникаций меняют характер действий, которые в принципе можно совершить с помощью публичной письменной или устной речи. Впрочем, в более поздних теоретических работах Хабермас интегрирует аналитическую перспективу Джона Остина и существенно меньший акцент делает на социально-экономические условия и задаваемые ими ограничения или возможности. Вопреки направлению эволюции немецкого философа, нам кажется важным восстановить исходный вопрос о связи социальных условий и перформативного характера речи конкретных авторов/акторов. Исследование публичной сферы и меняющихся режимов публичности дает возможные инструменты для дальнейших разысканий в этой области.
Мы заимствуем понятие «режим публичности» у американских специалистов по урбанистике и публичной сфере, для которых были важны вопросы ограничения реального и символического доступа к публичному городскому пространству [73]. В применении к российскому контексту оно помогает осмыслить пластичность исторической ткани, с которой мы имеем дело как исследователи. Как можно определить режимы публичности? Режимы публичности задают конвенции и правила публичных высказываний в различных жанрах, а также рамки возможных реакций на политическую речь, художественные или публицистические произведения. В зависимости от режима публичности реакция может представлять собой а) полемический ответ; б) цензуру, репрессии, санкции; либо, напротив, в) равнодушное или даже снисходительное отсутствие реакции на высказывание. Опираясь на исходную историческую реконструкцию Хабермаса и последующие критические исследования историков публичности, мы можем выделить несколько характеристик, которые вместе способны дать нам представление о национальных и локальных режимах публичности:
1) формальные и неформальные механизмы ограничения и предоставления доступа к публичной речи или демонстрации художественных высказываний на различных площадках и соответствующие ограничения;
2) иерархия (формальная или неформальная), неравная значимость высказываний разных акторов в зависимости от должности, статуса, сословия, образования, пола и т. п.;
3) механизмы цензуры, регламенты, уставы и сложившиеся конвенции и правила, регулирующие публичные высказывания (и, соответственно, санкции за их нарушение) в диапазоне от идеологического дискурса до художественных произведений;
4) практики, формы, жанры и материальная инфраструктура публичной коммуникации: трактаты, памфлеты, «толстые» журналы, газеты, открытые письма, выставочные залы, литературная и художественная критика, салонные разговоры, беседы на кухне или в кофейне, ток-шоу на телевидении, соцсети и т. п.;
5) организации или институты, обеспечивающие сферу полемики и принятия решений, обязательных для участников (клубы, парламенты, масонские ложи, суды, университеты и др.);
6) господствующие представления о допустимых источниках и способах производства нормативных утверждений и авторитетных публичных высказываний: эпистемология, ценности, канон в политической философии или в искусстве;
Читать дальше