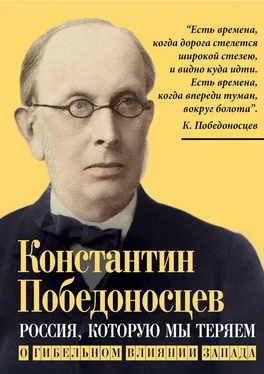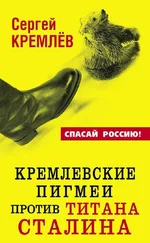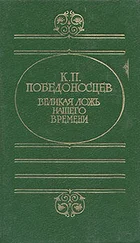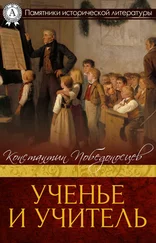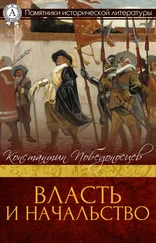Итак, свободное государство может, положить, что ему нет дела до свободной церкви, только свободная церковь, если она подлинно основана на веровании, не примет этого положения и не станет в равнодушное отношение к свободному государству. Церковь не может отказаться от своего влияния на жизнь гражданскую и общественную; и чем она деятельнее, чем более ощущает в себе внутренней, действенной силы, тем менее возможно для нее равнодушное отношение к государству.
Такого отношения церковь не примет, если вместе с тем не отречется от своего божественного призвания, если хранит веру в него и сознание долга, с ним связанного. На церкви лежит долг учительства и наставления, церкви принадлежат совершение таинства и обрядов, из коих некоторые соединяются с важнейшими актами и гражданской жизни. В этой своей деятельности церковь по необходимости беспрестанно входит в соприкосновение с общественною и гражданскою жизнью (не говоря о других случаях, достаточно указать на вопросы брака и воспитания).
В той мере, как государство, отделяя себя от церкви, предоставляет своему ведению исключительно гражданскую часть всех таких дел и устраняет от себя ведение духовно-нравственной их части, церковь по необходимости вступит в отправление, покинутое государством, и, в отделении от него завладев мало-помалу вполне и исключительно тем духовно-нравственным влиянием, которое и для государства составляет необходимую, действительную силу. За государством останется только сила материальная и, может быть, еще рассудочная, но и той и другой недостаточно, когда с ними не соединяется сила веры.
Итак, мало-помалу вместо воображенного уравнения отправлений государства и церкви в политическом союзе окажется неравенство и противоположение. Состояние, во всяком случае, ненормальное, которое должно привести или к действительному преобладанию церкви над преобладающим, по-видимому, государством или к революции.
* * *
Вот какие действительные опасности скрывает в себе прославляемая либералами-теоретиками система решительного отделения церкви от государства. Система господствующей или установленной церкви имеет много недостатков, соединена с множеством неудобств и затруднений, не исключает возможности столкновений и борьбы. Но напрасно полагают, что она отжила уже свое время!
Страстные провозвестники свободы ошибаются, полагая свободу в равенстве. Или еще мало было горьких опытов к подтверждению того, что свобода не зависит от равенства, и что равенство совсем не свобода? Таким же заблуждением было бы предположить, что в уравнении церквей и верований перед государством состоит самая свобода верования.
Спорный вопрос о веротерпимости
( Из статьи «Вопросы жизни» )
Рассуждающие о свободе совести, в различных верованиях, сводят обыкновенно верование к понятию об убеждении, то есть к действию ума, остановившегося на известной идее. Однако верование в массе большею частью утверждается не столько на уме, сколько на воображении: оно дает первоначальную основу, создавая представления, из коих ум после того вырабатывает учение, слагающееся в схему и даже, при своем развитии, в целую систему. Таким образом совершается в человечестве неперестающий процесс психического религиозного творчества, плодящего без конца разнообразнейшие, иногда в самой дикой и безобразной форме, виды верований и вероучений.
Веками утвержденные системы верований, в силе господственно покорившей миллионные населения, объемлющие целые части света, огражденные кодексами заветов и могущественной ученой иерархией, – и те не удержали вполне своей цельности, разбиваясь на множество толков, взаимно враждебных и друг друга исключающих. Но вне этих вероучительных систем, огражденных крепкими стенами, кои созданы вековым трудом многих поколений, – совершается ежедневно и ежечасно работа новых пророков и проповедников, привлекающих к себе кружки, кучки и целые массы восторженных последователей. И каждая слагается в отдельный орган страстного стремления и страстной пропаганды. И то примечательно, что привлекаются к этому стремлению не только люди простые и невежественные, но и люди из среды цивилизованного общества.
Никогда не было такого размножения сект всякого рода, как в наше время господствующей повсюду цивилизации и усилившегося общения между классами общества. Как будто проснулась вновь в массах потребность мистического стремления к какой-то новой вере, по мере того как ослабели в обществе вековые верования и предания минувших поколений.
Читать дальше