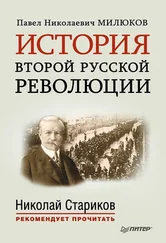Скрепя сердце Струве соглашается сосредоточить свою ненависть из поколения 30-х и 40-х годов на одном Бакунине и на «полевевшем» под его (?) влиянием Белинском, а затем перенести ее всецело уже на 60-е и 70-е годы. Но и хронологическая грань 60-х годов в этом отношении не делает никакой разницы, кроме, конечно, той, что интеллигентский процесс работы над верой стал легче для тех поколений, которые имели позади себя опыт своих предшественников.
Можно ли на этом основании проводить между теми и другими принципиальное различие? В сущности, вся разница здесь только в страстности и в огульности отрицания. «Семинаристы» 60-х годов не виноваты, конечно, что вынесли эту страстность из более непосредственного соприкосновения с миром русской церковности и пережили свои личные религиозно-нравственные драмы гораздо раньше, чем вышли на литературное поприще, с уже готовым и законченным мировоззрением.
Они не виноваты также и в том, что европейскими авторитетами и вождями интеллигенции оказались в то время не Гольбах и Мозес Мендельсон, как во времена Радищева, не Гегель с Фейербахом, как во времена Герцена, а Молешотт и Бюхнер. Не виноваты будут, конечно, и сами авторы «Вех», что в их поколении господствовали критицизм, психологизм и ницшеанство.
Монополия авторитетов проходит и гибнет, традиция интеллигентской мысли остается, и в самих контрастах и ошибках ее есть своего рода непрерывность. Меняются мотивировки, а цели остаются те же. Наши индивидуалисты, например, при всей разнице теоретических исходных точек, уже давно вернулись практически к Михайловскому. И почему они в своей идеалистической мотивировке менее отщепенцы, чем идеологи русского «народничества», – примем уже условно этот огульный термин – понять невозможно. Страстность русского «служения народу» можно осуждать и порицать с каких угодно точек зрения: с точки зрения «абсолютных ценностей», оставленных в пренебрежении народниками, с точки зрения «первенства духовной жизни над внешними формами общежития» и т. д. Но именно народолюбие и даже народопоклонство русской интеллигенции нельзя обличать с точки зрения ее «отщепенства».
Из религиозно-философских мыслителей и моралистов «Вех» пока, по крайней мере, никто не пытался прекратить это отщепенство никаким иным путем, кроме внутренних «конкретных» переживаний. А русские народники пошли сами в деревню и нас с нею впервые познакомили. Они пошли туда, мучаясь своим отщепенством и подчеркивая свое непонимание, несоизмеримость своей интеллигентской мысли с народной, как Глеб Успенский. В его лице они делали нечеловеческие усилия, чтобы найти оправдание для стихийного мировоззрения деревни, для «власти земли». Они подмечали, вытаскивали на свет Божий и без конца возились и любовались каждой живой струей, на которую наталкивались, изучая эти инертные, мертвые, массивные почвенные пласты. Они отыскали в деревне ее собственную интеллигенцию.
От религиозной неподвижности массы они ушли в изучение народных течений сектантства. И это они, именно они первые познакомили нас с подлинной – не воображаемой авторами «Вех», а действительной русской живой религиозной мыслью. По их следам пошли потом только одни миссионеры…
* * *
Словом, во всей истории многострадальной русской интеллигенции ни одно поколение не чувствовало своего отщепенства, и прежде всего религиозного отщепенства, так мучительно, не делало таких отчаянных усилий дойти до самого корня в изучении его причин, не пыталось так настойчиво преодолеть эти причины и засыпать пропасть, отделяющую народ от интеллигенции, как именно поколение наших народников: беллетристов, публицистов и исследователей народного быта.
Теперь в награду оно получает от «детей» нового поколения высокомерное осуждение за свое особо упорное, сектантски-фанатическое… отщепенство. А новые «народники» из авторов «Вех» ищут способа прекратить этот разлад «внутренним сосредоточением» в «эгоцентризме сознания».
К этому бегству «внутрь» побуждает их ложный, патологический страх собственного «бессилия», «изолированности» в море народной «ненависти» и, следовательно, в конце концов, тоже… «политика!»
Прочтите, в самом деле, эти усиленные убеждения Булгакова – не вызывать противников на «борьбу с интеллигентскими влияниями на народ – ради защиты его веры», не дразнить «черносотенства» «интеллигентским просветительством», не «употреблять всю силу своей образованности на разложение народной веры», давая тем оружие против интеллигенции «своекорыстным сторонникам реакции, аферистам, ловцам в мутной воде»; не «растрачивать лучшие силы в бесплодной борьбе».
Читать дальше