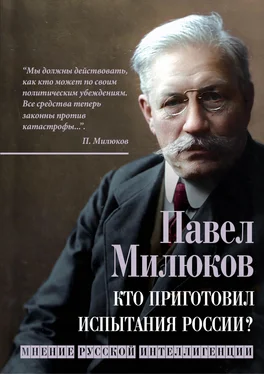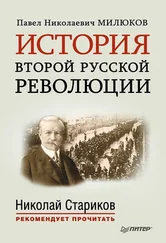Действительно, если не все, то многое в утверждениях об «отщепенстве» русской интеллигенции есть истинная правда. Но, во-первых, есть много и абсолютно неверного. Еще больше – неверно истолкованного. А, что главное, констатируя и толкуя так или иначе факты о русском интеллигентском отщепенстве, мы вовсе не обязываемся брать за исходную точку понятие «Вех» о том, как «должно быть» на деле. Прежде всего мы должны проверить основания их морального «вменения».
Вот почему обстоятельный разбор обвинений русской интеллигенции в «отщепенстве» с только что указанных точек зрения представляется мне самой важной из всех задач, какие может поставить себе критика «Вех». Как бы ни смотрели на поднятые ими вопросы сами авторы «Вех», спорить с ними по существу – значит именно спорить на почве формулированных ими политических обвинений. Этим мы теперь и займемся.
Безрелигиозность русской интеллигенции
Первым по порядку стоит обвинение, наиболее обоснованное объективными данными, – в безрелигиозности русской интеллигенции. Защитники ее, чувствовавшие силу этого довода, иногда считали нужным прибегать к смягчающим обстоятельствам. Они признавали факт, но утверждали все-таки, что по-своему русская интеллигенция была религиозна. Еще Токвиль заметил, что «революционный дух нашей эпохи действует на манер религиозного духа». На этой мысли пробовали обосновать религиозность русской революционной интеллигенции уже занимавшиеся ее изучением иностранцы. У Леруа-Болье можно найти эту аналогию между настоящей религиозностью и убежденностью русской интеллигенции до фанатизма, ее энтузиазмом до сектантства, самоотвержением до подвижничества.
Я согласен с теми из авторов «Вех», которые не хотят принять этой аналогии за серьезное доказательство. Религиозные переживания суть эмоции совершенно особого и специфического характера. По определению Джемса, при всех разновидностях религиозных эмоций в них всегда должны быть налицо три основных верования: 1) что видимый мир есть лишь часть духовной вселенной, от которой он заимствует главное свое значение; 2) что истинная цель наша есть единение или гармоническая связь с этой высшей вселенной и 3) что молитва или внутреннее общение с духом этой вселенной – называть ли его «Богом» или «законом» – есть тот процесс, в котором действительно совершается духовное «делание», в котором вливается духовная энергия, производящая свое действие, психологическое или материальное, в видимом мире.
Прилагая эти основные условия всякой религиозности к самим авторам «Вех», мы увидим, что даже из них вполне удовлетворить этим требованиям может разве один Булгаков. Не мудрено, что именно он и негодует особенно на всякие подделки новейших интеллигентов под христианство, не исключая, по-видимому, даже и своих единомышленников – и даже особенно опасаясь их религиозно-философских упражнений.
Религиозное переживание всегда лично, индивидуально и конкретно. Его интеллектуальное содержание может быть минимально. От воздействия философии и тем более науки оно стремится освободиться как от элемента несоизмеримого и чужеродного. Ему нельзя научиться теоретически. По выражению Аль-Газали, «понимать причины пьянства, как понимает их врач, – не значит быть пьяным».
Религиозные переживания можно развить и обогатить духовным упражнением, практикой – и на этом одинаково основана религия Франциска Ассизского, Игнатия Лойолы и Огюста Конта. Но есть натуры абсолютно неспособные к этого рода переживаниям, и на их долю может остаться разве только интеллектуальная религия – та, которая наиболее страдает от развития науки и философии.
Было бы, конечно, естественно, если бы мы вывели из сделанных замечаний, что религия есть явление чисто индивидуальной психологии, есть, следовательно, дело совести каждого, и на этом остановили бы наш разбор вопроса о религиозности русской интеллигенции. Но мы можем и должны идти дальше, в ту область, в которую зовет нас этот вопрос, – в область истории религиозного сознания.
Дело в том, что, как бы на него ни смотреть по существу, существует известная эволюция религиозного сознания. Эта эволюция совершается совершенно по тем же законам в русской интеллигенции, как и во всякой другой. Мы только что различили в религии две ее стороны: теорию и практику, интеллектуальное содержание и психическую эмоцию – другими словами, догму и культ. Каждая из этих сторон религиозности претерпевает определенное изменение в историческом процессе. Догма изменяется, постепенно рационализируясь. Культ изменяется, постепенно спиритуализируясь. И оба процесса эволюции, в направлении рационализма доктрины и мистицизма культа, совершаются при прямом участии интеллигенции.
Читать дальше