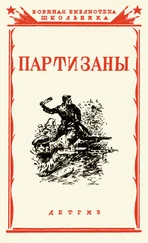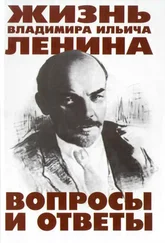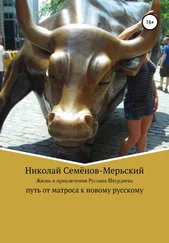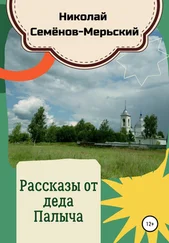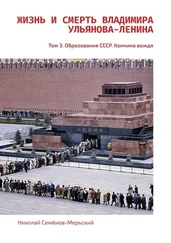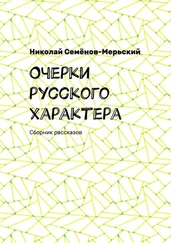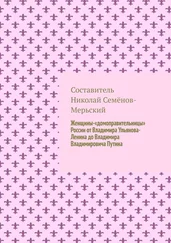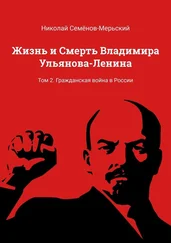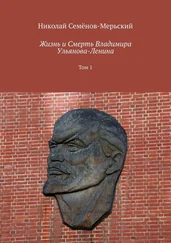Начальство не боялось, по законам Российской империи родственники государственных преступников подвергались поражению в правах. Поскольку Владимир Ульянов был 17 лет от роду и не достиг возраста совершеннолетия, 21 года, он под действие закона не попадал.
Мария Александровна, в связи со сложившимися обстоятельствами, ссылка дочери Анны в Кокушкино, имение её отца в 40 верстах от Казани, и с планируемым зачислением Владимира в Казанский университет переехала всей семьёй в Кокушкино, в отцовское имение. Дом в Симбирске был с выгодой продан, так как при доме был хороший участок земли с садом, во дворе дома имелся флигель, комнаты которого сдавались в наём жильцам, имелись хозяйственные постройки, конюшня на два экипажа, и прочая живность. Полученные деньги, Мария Александровна сразу поместила в банк, который выплачивал хорошие проценты, она умела беречь и копить деньги. Семья вначале поселилась в усадьбе отца Марии Александровны, где ей досталась доля в наследстве после кончины отца в 1870 году.
Затем семейство, кроме Анны, которая оставалась жить в Кокушкино, так как это было место её ссылки, переехало в Казань и поселилось в доме купеческой вдовы Куклиной, рядом с Университетом.
Первоначально Владимиру Ульянову в зачислении в университет было отказано, хотя он был потомственный дворянин и имел золотую медаль после окончания гимназии, но его брат был казнён как государственный преступник, что по закону Российской империи влекло за собой ущемление в правах и для прямых родственников. Пришлось матери побегать по инстанциям и писать «Прошения» для зачисления Владимира.
Была затребована характеристика на Владимира Ульянова с места обучения, из Симбирской гимназии. Директором гимназии был друг их семьи, Фёдор Михайлович Керенский. Он выдал Владимиру Ульянову соответствующую «мудрую» характеристику, прибегнув ко лжи, в которой он сделал упор на хорошее поведение Владимира и его православную религиозность, хотя Владимир Ульянов и объявлял себя атеистом с юности в партийной биографии. В этой характеристике, Фёдор Керенский не указал на свои беседы с гимназистом Владимиром Ульяновым по поводу «угнетённых классов» в его сочинениях и на его умение организовывать коллективные «протесты», прячась за спины сотоварищей. Представленная директором гимназии Фёдором Керенским в Университет характеристика, позволила ему, Владимиру Ульянову, быть зачисленным в Университет, но не надолго, на несколько месяцев.
13 августа, 1887 года на вторичном прошении Ульянова о зачислении в Университет, появляется резолюция, «Принять», на первом прошении была резолюция «Запросить характеристику из гимназии». С этого дня Владимир Ульянов становится студентом и подает новое прошение, «об освобождении его от платы за обучение, как члена семьи без кормильца». Его мама, Мария Александровна умела беречь и копить денежки, оформила соответствующее свидетельство «о бедности», хотя у неё на счёте в банке лежало более 7000 рублей, очень большая сумма по тем временам, на современные деньги это более 8 миллионов рублей. В университете просьбу «бедного» поддержали, и 8 сентября правление университета включило его в списки лиц «православного вероисповедания», нуждающихся в льготе по оплате за обучение, «на основании свидетельств о бедности, баллов по аттестатам зрелости и характеристики из гимназии». 12-го сентября списки просителей утвердили и отправили далее по инстанции. Но, в СПб Владимира Ульянова из списка «бедных» исключили, его брат Александре совершил государственное преступление, льгота для семей государственных преступников отменялась, так что за обучение пришлось платить, и даже значительно больше, чем в предыдущие годы, так как плата «за обучение» была поднята в этом году.
Занятия в университете Владимир посещал крайне нерегулярно. В ноябре он присутствовал на лекциях лишь 8 дней. Гораздо больше его привлекала протестная студенческая жизнь, которая буквально бурлила в университете. Именно в это время, в июне, министр просвещения Делянов издал циркуляр, вошедший в историю как «циркуляр о кухаркиных детях», который в несколько раз повышал плату за обучение в университетах, что закрывало доступ детям «низших сословий», разночинцев, процент которых в Казанском университете до этого был высокий. Тогда же приняли и новый «Университетский устав», лишавший университеты остатков автономии и запрещавший сходки, собрания и любые студенческие организации, кассы взаимопомощи, студенческие библиотеки, землячества. Одновременно существенно расширялись права «инспекторов по надзору за студентами», которые выполняли полицейские функции надзора и сыска.
Читать дальше
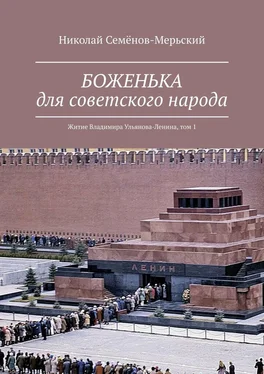
![Андрей Вербицкий - Шесть лет с В. И. Лениным [Воспоминания личного шофера Владимира Ильича Ленина]](/books/25143/andrej-verbickij-shest-let-s-v-i-leninym-vospom-thumb.webp)