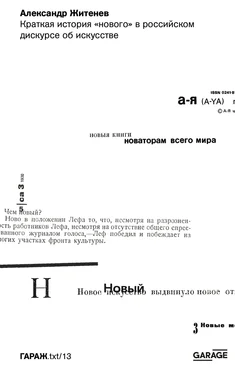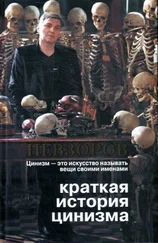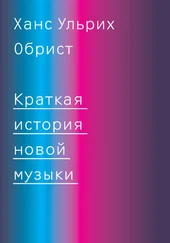Новизна последовательно, особенно в статьях С. Маковского, характеризуется как важный, но не единственный критерий ценности высказывания. Любое акцентирование новизны может рассматриваться только как предварительное условие создания художественного языка: «Мы знаем историю этой “борьбы за новое искусство”. Чтобы вернуть живописи утраченные ею ценности, чтобы излечить ее от антихудожественности, ‹…› художникам-реформаторам пришлось как бы “начать сначала” ‹…› отстранив от себя более общие, более сложные и более окончательные задачи» [30] Маковский С. Проблема «тела» в живописи // Аполлон. 1910. № 11. С. 13.
.
В характеристике новизны важным оказывается не единство контекста, в котором все явления можно измерить общей мерой, а уникальность художественного примера. Здесь уместно вспомнить апологическое высказывание С. Маковского о Валентине Серове: «Я знаю – в глазах русской молодежи Серов “уже устарел”. Серов академичен, недостаточно новатор ‹…› Но, говоря по совести, что может быть новее искренности?» [31] Маковский С. Мастерство Серова // Аполлон. 1912. № 10. С. 11.
. Суть такого подхода становится очевидной из работы М. Кузмина, разделяющего новизну «голоса» и «приема»: «Наслаждаться художественным произведением не по неслыханности нового личного голоса, а по новизне принципов и приемов есть временное достояние исключительно современных вещей…» [32] Кузмин М. «Орфей и Эвридика» кавалера Глюка // Аполлон. 1911. № 10. С. 19.
.
Оппозиция «голоса» и «приема» сопряжена с характерным для «Аполлона» утверждением о том, что «новое» является средством удостоверения уникальности субъекта и его места в культуре. Об этом смысле новизны пишет А. Шервашидзе: «Гордый дух современного художника сознал себя достаточно сильным для того, чтобы раскрыть в свою очередь великую книгу Жизни, смело найти в ней предназначенную для него страницу, ‹…› повторить ее в искусстве и вылить свое прекрасное волнение в новые формы и, совершив все это только из неодолимого желания, – сделаться человеком своего времени и своей расы» [33] Шервашидзе А. Сто лет французской живописи // Аполлон. 1912. № 5. С. 10.
.
Если ценность «нового» состоит в наделении смыслом индивидуального бытия, то средством достижения этой цели оказывается последовательное отождествление «быть» с «видеть», а «видеть» с «выражать». Быть новым – значит уметь видеть по-новому и найти форму для закрепления этого видения. В работе о «художниках-аналитиках» Н. Радлов связывает переход явления в эстетическое качество с его преломленностью в восприятии художника: «Художник-аналитик стремится прежде всего увидеть ‹…› “Как” всецело торжествует над “что”. Центр тяжести перенесен на художническую личность. ‹…› Мы стремимся к новому искусству» [34] Радлов Н. Современная русская графика и рисунок. I // Аполлон. 1913. № 6. С. 7.
.
Ценность личностных обертонов «нового» оттеняется с помощью разных ситуативных определений. При этом признание личностного характера новизны допускает различные ограничения «индивидуализма». Н. Радлов, например, выражает неприятие «точки зрения»: «Требование, предъявленное художнику после долгих лет рутинного “реализма” – видеть по-своему – выродилось в стремление видеть непременно по-новому. ‹…› Новизна взгляда на природу, новизна способа изображения стали мерилом ценности произведения. По-новому, во что бы то ни стало по-новому!» [35] Радлов Н. Современная русская графика и рисунок. I // Аполлон. 1913. № 6. С. 7.
. У С. Маковского неприятие индивидуализма – это несогласие с абсолютизацией приема: «Дело не в методе, а в творческом вдохновении и в творческом знании. Поэтому неизмеримо лучше – метод не столь новый и большой “знающий” талант, чем наоборот» [36] Маковский С. Выставка «Мир Искусства» // Аполлон. 1911. № 2. С. 23.
.
Б. Анреп устанавливает связи между «новым», «субъективным» и «музыкальным»: «Идея нового искусства ‹…› состоит в том, что оно ‹…› есть непосредственное ‹…› воплощение особых душевных волнений. Цель нового искусства – создать зрительную музыку [37] Анреп Б. По поводу лондонской выставки с участием русских художников // Аполлон. 1913. № 2. C. 41.
. «Музыкальная» психология новаторства в публикациях «Аполлона» характеризуется несколькими чертами, важнейшей из которых оказывается «нетерпение». Нетерпение трактуется как потребность высказаться поверх условностей. Об этом, говоря о «страстности» Ван Гога, пишет А. Шервашидзе: «Одинокий, сильный, горячий темперамент, нетерпеливый, всеподчиняющий! У него не было ни достаточно знаний, ни метода, чтобы делать спокойно и уверенно работу синтеза, ‹…› без которой ни один шедевр, полный страсти и огня, не создается» [38] Шервашидзе А. Ван Гог (1853–1890) // Аполлон. 1913. № 7. С. 21–22.
.
Читать дальше