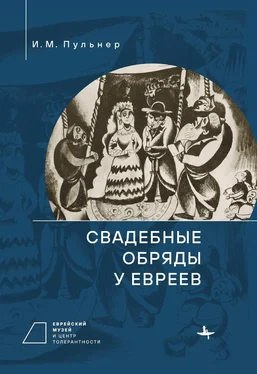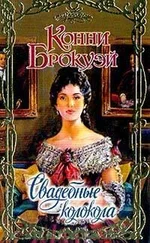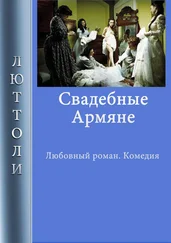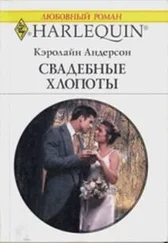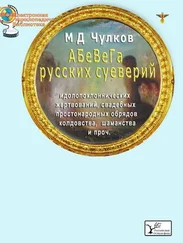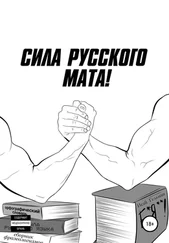1 ...7 8 9 11 12 13 ...26 Следование догматам Штернберга порой приводило Пульнера к ни на чем не основанным выводам. Например, в «Общих выводах» диссертации он написал: «Главным актом в комплексе свадебных обычаев был акт перехода жены в дом мужа и приобщения ее к его роду» [47] См. с. 292 настоящего издания.
, хотя в тексте диссертации подробно рассказывал о том, что в зажиточных еврейских семьях молодожен не только переходил на содержание семьи своей жены, но и поселялся с ее родителями. Штернберг писал о том, что у нивхов после свадьбы жена переходит в род мужа [48] Штернберг Л. Я. Семья и род у народов Северо-Восточной Азии. Л.: Издательство института народов Севера ЦИК СССР, 1933. С. 34.
. Пульнер механически повторил эту мысль в выводах своей диссертации. У евреев Восточной Европы нет ни родовой структуры, ни экзогамии, и вообще они не имеют никакого отношения к живущим в до-классовом обществе аборигенам Дальнего Востока, но всё это не так важно, как необходимость слепо следовать догме. К счастью, таких мест в тексте диссертации немного.
В некоторых случаях, когда теория плохо согласуется с материалами, выходом из положения для Пульнера служит формула, предложенная еще одним его учителем – Зелениным. Зеленин ищет и находит в славянских свадебных обрядах пережитки языческого прошлого, что делает сравнение с ирокезами несколько более уместным. Например, он пишет: «В свадебном обряде восточных славян отчетливо прослеживаются напластования трех эпох. Основа восходит к эпохе экзогамии, к языческим временам умыкания и покупки невесты. Пережитки этой эпохи в изобилии прослеживаются и свадебном ритуале всех восточных славян» [49] Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография / Пер. с нем. К. Д. Цивиной. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 332.
. Таким образом, формула Энгельса оказывается более обоснованной применительно к славянской этнографии. Чтобы это обоснование выглядело устойчивым, элементы «купли невесты» Зеленин объявляет пережитками: «Пережитки некогда существовавшей покупки невесты у чужого рода встречаются у всех славян, в том числе и у восточных, однако это именно пережитки» [50] Тамже. С. 341.
. Слово «пережитки» становится универсальной «отмычкой» для Пульнера всякий раз, когда ему приходится объяснять пресловутую «куплю». Однако он пользуется понятием «пережитков» гораздо менее искусно, чем Зеленин, так как при всем желании невозможно обнаружить пережитки язычества и родового строя у евреев-ашкеназов. Как правило, ссылка на «пережитки» следует в диссертации безо всяких объяснений или с минимальными объяснениями. Например, Пульнер находит даже «пережитки» умыкания невесты в том, что ее незаметно для гостей уводят со свадьбы в спальню. Он пишет: «Внезапное исчезновение, увод молодой в брачный покой представляло собою, надо полагать, пережиточный элемент брака путем умыкания», и далее поясняет: «Это предположение подтверждается, как нам кажется, двумя моментами <���…> а) спохватившись “пропажи”, женщины переставали танцевать, уступая свое место мужчинам, и б) последние затевали более шумный танец с участием молодого» [51] См. с. 279 настоящего издания.
. Аргументация малоубедительная и даже комичная.
Наибольшее влияние на Пульнера как на ученого оказали работы Кагарова. Кагаров был не только одним из его учителей в университете, но проявлял постоянный интерес к исследованиям своего бывшего студента вплоть до замечаний в тексте диссертационной работы.
Начиная очередной раздел диссертации, например описание сватовства или бракосочетания, Пульнер сначала излагает особенности этих обрядов в библейский и талмудический период. Это очень похоже на работы Кагарова, по образованию археолога и филолога-классика, постоянно сопоставлявшего современные этнографические материалы с античными обрядами. Пульнер следует по его стопам, но не всегда успешно. Сопоставление древних текстов с современными практиками выглядит неубедительно. Непосредственное влияние Библии и Талмуда на обрядность, если речь не идет о прямых галахических предписаниях, минимально. Что касается именно галахи, то ее обсуждение было бы уместно, но для этого гораздо лучше подошли бы не пассажи из Талмуда, а соответствующие галахические кодексы и раввинские респонсы. Но как раз их Пульнер цитирует в небольшом объеме и не систематически. Пульнер – вовсе не знаток раввинистической учености. Библию он цитирует в Синодальном переводе, Мишну – в основном в переводе Переферковича или по статье «Свадебные обряды» из Еврейской энциклопедии. Его экскурсы в древность выглядят наиболее слабой частью диссертационной работы.
Читать дальше