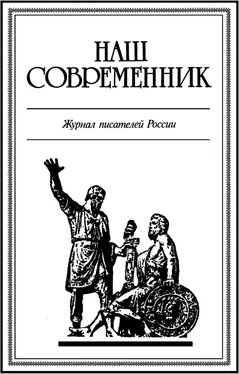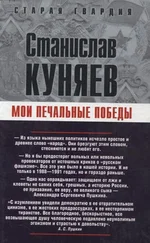Всех этих “игроков в эмиграцию” на родине уже не удерживало ничего: ни “моральный кодекс строителей коммунизма”, ни показная “русскость”, ни православная вера, поскольку все они, как и большинство советских людей, были, как бы это помягче сказать — “обезбожены”. Полная обезбоженность Евтушенко скорее всего происходила от постоянного общения с его воспитателями-атеистами — Слуцким, Межировым, Самойловым. А нравы в Литературном институте, где учился Евгений Александрович и где позднее преподавал Межиров, были таковы, что когда наша шестидесятница Татьяна Глушкова представила для защиты диплома книгу стихотворений, называвшуюся “София Киевская”, то её научный руководитель, известнейший советский поэт Илья Сельвинский не принял рукопись диплома “по причине христианских мотивов, наличествующих в ней”.
Давид Самойлов за год до смерти, перепуганный провокационными криками наших СМИ о надвигающихся еврейских погромах (Алла Гербер, будучи в Израиле, однажды заявила, что благодаря только её речам и выступлениям из СССР уехало в Израиль около миллиона евреев), записал в дневнике:
“Если меня, русского поэта и русского человека, погонят в газовую камеру, я буду повторять: “Шма исроэл! Адонай элхейну, Адонай эхад!” Единственное, что я запомнил из своего еврейства” — начало еврейской молитвы: “Слушай, Израиль! Господь наш Бог, Господь Един!” Не “Отче наш” вспоминает перепуганный поэт, а “слушай, Израиль!”
И при этом жаждет остаться именно русским поэтом.
Другой воспитатель Евгения Евтушенко Борис Слуцкий об Иисусе Христе, как мне помнится, в своих стихотворных книгах не вспомнил ни разу. Но о ветхозаветном боге евреев Иегове высказался в стихотворении о Сталине, который, по пониманию поэта, был настолько всемогущ и велик, что еврейского Иегову — “он низринул, извёл, пережёг на уголь, а после из бездны вынул и дал ему стол и угол”.
Правда, в одном из предсмертных своих стихотворений Слуцкий признался, что при жизни он “так и не встретился с Богом”. А что касается Межирова, то безбожная и бессмысленная “бормотуха бытия”, настигшая Александра
Петровича в годы перестройки, впервые овладела им гораздо раньше, когда поэт в 1971 году посетил Троице-Сергиеву Лавру.
Уже тогда Лавра с её насельниками показалась ему обителью нищебродов и рассадником уголовно-разбойных нравов, впоследствии заклеймённых поэтом, как “охотнорядских” и “черносотенных”. Помню, что когда я впервые прочитал стихотворение “Спит на паперти калека”, то подумал: а не состоял ли подросток Саша в “Союзе воинствующих безбожников”, деятельностью которых руководил Емельян Ярославский?
Нищий, рваный и голодный,
Спит на паперти холодной,
Подложив костыль под бок.
Там в окладах жемчуг крупен.
У монаха лик преступен,
Искажён гримасой рот.
Но мало того, весь сергиево-посадский пейзаж, украшенный храмами, колокольнями, часовнями, крепостными стенами и монастырскими озёрами, показался поэту очагом мерзости и запустения, достойным того, чтобы над ним справляла свой пир воронья стая, прилетевшая сюда ради поживы:
В дымке Троица святая,
А над ней воронья стая
Раскружилась и орёт.
Дабы никто не сомневался в обречённости и бессмысленности этой православной “бормотухи”, поэт, чтобы обосновать историческую и религиозную нищету Третьего Рима, рисует одно убогое зрелище за другим:
Спит на паперти калека,
А в гостинице уют.
С восемнадцатого века
Не проветривали тут.
В великих русских лаврах-монастырях — Троице-Сергиевой, Киево-Печерской, Почаевской, Псково-Печерской, хранящих традиции и душу тысячелетней России, всякое проветривание — начиная от Никона и кончая “Союзом воинствующих безбожников” — до добра не доводило. Ну как тут не вспомнить великого русского историка Ключевского, сказавшего, что, пока идут службы в храмах Троице-Сергиевой Лавры, пока покоятся в серебряной раке мощи Сергия Радонежского, дотоле будет жива Россия.
Жива не как поле битвы, покрытое мёртвыми телами, и не как гора исторического хлама и мусора, предназначенная для того, чтобы её расклёвывали вороны…
И над Троицким собором,
Оглашая воздух ором,
Вьётся стая воронья.
Увидав калеку, спящего на паперти, и монаха с разбойничьим, “преступным ликом”, поэт ужаснулся и закричал: “С восемнадцатого века не проветривали тут”… А на самом деле Лавра, окружённая крепостными стенами и угловыми башнями, возведёнными за несколько веков монастырской братией, выдержавшая в Смутное время осаду польского регулярного войска, во времена Минея Губельмана (Емельяна Ярославского) “проветрилась” так, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Читать дальше