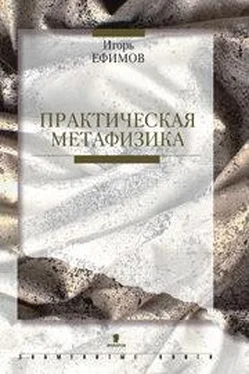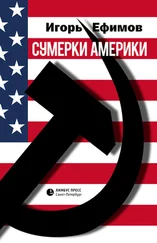4. Функция рассудка — объединять все богатство чувственного созерцания в понятиях. Функция собственно разума — придавать многообразию разрозненных понятий единство мысли. Подобная деятельность разума происходит по так же до всякого опыта заложенным в нем априорным законам, категориям, из которых главнейшая — причинность. Категории без понятий и соответствующих им чувственных созерцаний суть пустые формы без всякого содержания.
5. Разум всякого человека действует по одним и тем же законам, но люди сильно отличаются друг от друга по степени владения ими, то есть по остроте и точности суждения, по уму. Правило (канон) для верного применения категорий выведен в чистой логике, польза которой, однако, только негативна: она может удержать от заблуждений, но прибавить знаний или ума ей не дано.
6. Чистый разум неудержимо стремится к расширению своего знания о мире и в этом стремлении часто пытается вырваться из сферы опыта. Излюбленный его прием — предложить категориям вместо понятий, соответствующих чувственному миру, по отношению к которым они только и применимы, понятия души, Бога, божественного эфира, Абсолюта, Духа и прочего, и дальше оперировать с ними в строгом соответствии с законами логики, создавая соблюдением этих законов иллюзию истинности. Подобную деятельность разума, породившую в свое время не только множество философских систем, но даже специальные псевдонауки — рациональную теологию, рациональную космологию и тому подобное, — Кант называет диалектикой. (Интересно отметить, что его собственная трансцендентальная диалектика есть в сущности учение о том, как избегать диалектики).
7. С другой стороны, тот же самый чистый разум, оставаясь в самой природой отпущенных ему границах, то есть в сфере опыта, совершая в нем победоносное шествие, по праву гордясь достижениями наук и презирая пустую схоластику, имея перед собой неисчерпаемые богатства реального мира и безграничное в нем поле деятельности, легко впадает, в конце концов, в обратную иллюзию, будто этот мир явлений и есть единственно подлинный, сам по себе существующий мир, и отказывается замечать не только напрочь выпадающую из него жизнь человеческой души (это еще было бы понятно), но и то, что в глубочайшем основании всех его великолепных построек неизбежно должно лежать нечто просто данное, принятое на веру, загадочная первооснова, перед которой обязаны умолкнуть неугомонные "почему?", "из чего?", "каким образом?", то есть некая граница, про которую он уже не смеет спросить "а что за ней?" (Смущенный в глубине души этим противоречием, он сейчас пытается прикрыть подобные основоположения всех своих знаний фиговым листком бесконечности, не замечая, что бесконечность — такое же демаркационное понятие для познания, как и вещь в себе, только не обладающее всеобщностью последней, и доставляющее ему массу лишних хлопот, например, в деле с квантом, где она никак не применима.)
8. И то, и другое заблуждение коренятся в самой природе разума и приводят в вопросе о целом мироздания к неразрешимым антиномическим противоречиям, а в исторической жизни человечества — к жесткочайшей многовековой борьбе, в которой льются не только чернила, но и кровь, и противоречия эти исчезают лишь тогда, когда мы начинаем мыслить целое как вещь в себе, несовпадающее с предметным миром — миром явлений.
Окинув взглядом эти подытоживающие положения, мы убеждаемся, что весь результат "Критики чистого разума" сводится к негативной пользе, к примирению вековой вражды. Кант и сам придавал ей именно такое значение. "Величайшая и, быть может, единственная польза всякой философии чистого разума только негативна: эта философия служит не органоном для расширения, а дисциплиной для определения границ, и, вместо того, чтобы открывать истину, довольствуется более скромной заслугой: она предохраняет от заблуждений" 6.
Да, скажем мы, — но в каких необъятных, недостижимых ранее пределах! Ведь не ограниченность, не коварство и злокозненность, а лишь неистребимое стремление к истине и самым возвышенным идеалам всегда побуждали разум проникать в горние выси, в мир сверхчувственный. Но попадая туда, вырываясь из сдерживающих границ опыта, он терял ту единственную область, где были применимы его силы и принимался в бесчисленном множестве создавать воздушные замки, населенные призраками и химерами, затоплял все вокруг потоками пустых словосочетаний, да еще гневался, когда их отказывались принимать за реальность. Порождения его делались столь гибкими и растяжимыми, что вдобавок с удобством использовались всякой властью для ее вечных задач подавления всего живого, и зрелище это, естественно, делалось столь невыносимым для всякого свободного и серьезного ума, ложность построений покрывала таким позором его (разума) возвышенные идеалы и самое понятие метафизики, что вопреки всем преследованиям, начиналось столь же неудержимое движение к обратной крайности, к отказу от самого понятия идеальности, к пошлейшему механицизму.
Читать дальше