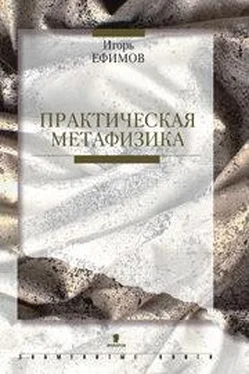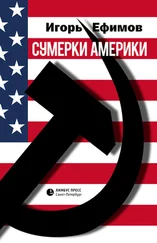Богатство, свобода, культура — казалось бы неисчислимы блага, даруемые выбором ведения. Но есть одно благо, которого он дать никогда не может, — покой, тишина, неизменность. Конкурентная борьба — вот обязательная цена богатства народов; политическая борьба — вот непременная цена свободы; борьба различных направлений в сферах искусства, науки, морали и религии — без нее немыслимо существование культуры.
Борьба, борьба — всюду борьба.
Но зачем, ради чего? Нельзя ли положить этому конец, прекратить борьбу и соединиться в мире и согласии, спрашивают слабые от рождения и уставшие за долгую жизнь, недалекие и слишком умудренные, знающие только сегодня и помышляющие только о вечном. Как это ни печально, ответ должен быть таким: для выбравших неведение прекращение борьбы возможно; для выбравших ведение — никогда. Ибо только на узкой почве представлений инконкрето можно найти нечто незыблемое и общеобязательное, могущее стать фундаментом для человеческого согласия; в бескрайних же просторах инабстракто каждый рискует затеряться в одиночестве.
Чем дальше человек заходит в выборе ведения, тем меньше у него шансов встретить близкую душу, чем сильнее он предан своему пути, тем враждебнее относится к путям других. Тот, кто всей душой устремляется в инабстракто прекрасного, часто с презрением смотрит на инабстракто рационально-практическое. Преданный морально-этическому идеалу готов именем добра отменить как рационально-практическое, так и прекрасное. Поднявшийся до лицезрения внутренним взором Божественного объявляет тленом и прахом всю жизнь и все устремления человеческие.
Все проектанты идеальных Мы что-нибудь да отсекают: Платон — красоту, Ницше — добро, социалисты — веру. И так как ни один абстрактный идеал не оказывается способным обеспечить Мы необходимое единство, реальные Мы вынуждены сводить их всех к какому-нибудь инконкрето: веру — к догме, добро — к порядку и законности, красоту — к канонам и модам, мудрость — к знанию правил. Только на этой зауженной и обедненной почве удается Мы поддерживать относительный мир между различными степенями и различными направлениями выбора ведения, давать относительный покой уставшим и относительную безопасность томящимся духом. Стабильность, покой внутри Мы — это и есть блага, которые ведение вряд ли когда-нибудь сможет обеспечить.
В духовном мире одна лишь философия вечно пытается выступить с пальмовой ветвью в руке.
По четырем основным направлениям уводит выбор ведения человеческую душу в пучину инабстракто — и ни одно из этих направлений нельзя назвать путем собственно философа. Философии в духовной жизни человека принадлежит совершенно особая роль. Не будучи в чистом виде ни наукой, ни искусством, ни системой морали, ни религиозным учением, она странным образом соединяет в себе черты и того, и другого, и третьего, и четвертого. Ибо вырастает она именно из внутренней потребности снять противоречивость, исключительность этих путей, обнаружить их глубочайшее сродство и единство. Этот внутренний смысл объединительства обусловливает то, что в истории культуры любого периода крупный философ всегда появляется после художников и ученых; ибо, не будь их, ему нечего было бы объединять.
Сами художники, ученые, моралисты и законодатели редко приемлют полностью какого-нибудь философа — они предпочитают довольствоваться своей собственной, часто довольно кустарной философией, обязательно оставляющей что-то непримиренным (то есть взывающим к творчеству). Но люди обыкновенные, нетворческие тянутся в эти периоды к философии как к великой примирительнице. Не созидая ничего полезного, прекрасного, поучительного или возвышенного, философия тем не менее имеет такой характер универсальности, что остается окруженной в глазах всех людей ореолом таинственного величия; часто на нее возлагают даже надежды, превышающие ее возможности.
Особенно же превозносима она самими философами. Многие из них не уставали повторять, что нет более блаженного занятия на земле, чем философствование. Мало того: те из них, кто был в глубине души слишком сильно предан какому-то из направлений — научному, как Пифагор или Спенсер, художественному, как Шеллинг или Ницше, этическому, как Сократ или Толстой, — те доходили до претензии заменить своей философией все остальные направления и изменяли соединительной задаче философии. Кроме этого вечного разлада между различными духовными устремлениями души, философу всегда приходится преодолевать и другое противоречие: между трансцендентальностью чувствования и реальностью мышления, между абсолютной свободой духовного и неизбежным ограничением свободы при воплощении чисто духовного опыта в материал философии — в понятия, выраженные словом.
Читать дальше