Во всех этих случаях вопрос сравнительно прост. Осложнения начинаются вот когда:
1) когда наследника нет;
2) когда монарх не умирает, а отрекается;
3) еще большие и трагические затруднения встают тогда, когда монарх при жизни всем своим образом действия нарушает или даже разрушает в душах подданных доверие к себе, быть может, все еще продолжая требовать от них верности.
Первые два случая высоко казуистичны: решение их возможно только в каждом отдельном случае в зависимости от сложившихся обстоятельств; и мы видим в истории, какие последствия могут наступать при отсутствии или при спорности законного наследника, когда целые народы годами борятся с явлениями спорности прав, самозванчества, новоизбрания, столкновения претендентов, борьбы между династиями.
Все эти явления вследствие их казуистичности и вследствие того, что они не касаются нашей основной проблемы — "монархии-республики", — я оставлю в стороне.
Что же касается вопроса о законных пределах повиновения монарху и тесно связанного с ним трагического вопроса о цареубийстве, то здесь мы как раз имеем ту сферу, в которой монархическое правосознание и республиканское правосознание сплетаются и смешиваются. Это есть специально область соблазнов и искушений для монархического правосознания; и если оно не справляется с ними, то оно переживает своеобразное крушение и перерождение, на котором необходимо остановиться.
* * *
Исследуя те свойства и черты, которые отличают монархическое правосознание от республиканского, мы установили, что
1) монархическому правосознанию присуще доверять главе государства
(пафос доверия), а республиканскому правосознанию присуще искать и устанавливать в законах и в учреждениях гарантии против главы государства
(пафос гарантии);
и далее, что
2) монархическому правосознанию присуще питать верность к главе государства, даже до смерти, а республиканскому правосознанию этот пафос верности не присущ; напротив, республиканское правосознание обеспечивает себе по отношению к главе государства независимость, право личной смены, иногда даже запрет переизбрания того же самого лица, право критики, агитации и даже партийной интриги против главы государства. Это есть вера в необходимость и возможность от времени до времени на срок избирать так называемого "наилучшего из равных".
С этим, сказал я, связана для монархического правосознания особого рода сложная и острая проблема, которая совсем не существует или почти не существует для республиканского правосознания. Это есть вопрос о пределах верности подданного монарху.
Для республиканца вопрос прост и ясен: президент, как орган государства, имеет свою, определенную в законах публично-правовую компетенцию: утверждение указов, законов, международных договоров;
назначение министров из состава парламентского большинства и т. д.; то, что он совершает в законной форме и в пределах своей компетенции-решает вопросы и связывает соответствующие органы государства; и наконец, ни о какой личной верности граждан президенту, его потомству или его роду не может быть и речи. Такая верность возможна — кто-нибудь может подать в отставку при окончании срока полномочий президента, отойти вместе с ним от дел, считать его врагов своими врагами, его друзей своими друзьями; даже уехать за ним в ссылку. Но все это будет совершенно лишено публично-правового значения: это будет делом личной дружбы или семейной преданности, но отнюдь не делом государственной воли, чувства и правосознания. Верность Ласказа, последовавшего за Наполеоном на остров Св. Елены; верность камер-гусара Струцкого, в объятиях которого скончался Фридрих Великий [Задыхаясь от удушья, Фридрих Великий не мог уже ни лежать, ни сидеть в кресле; Струцкий, стоя на одном колене, посадил умирающего императора на другое, держа его за спину и охваченный рукой Фридриха за шею, — и так держал его, облегчая ему муку, два часа подряд, пока король не умер (Карлейль, "Friedrich", 526)];
верность Татищева, Долгорукого, Боткина, Гендриковой и Шнейдер [Татищев Илья Леонидович — генерал-адъютант. Добровольно отправился с царской семьей в ссылку. По прибытии в Екатеринбург заключен в тюрьму и расстрелян. Долгоруков Василий Александрович — князь, гофмаршал. Убит в Екатеринбурге большевиками. Боткин Евгений Сергеевич — лейб-медик Николая II. Расстрелян вместе с царской семьей. Гендрикова Анастасия Васильевна — графиня, личная фрейлина императрицы Александры Федоровны. По прибытии в Екатеринбург заключена в тюрьму и расстреляна. Шнейдер Екатерина Адольфовна — гофлектриса. Расстреляна в Екатеринбурге], погибших вместе с семьей Государя Николая II, — все это есть явления или поступки государственного значения, рыцарственные акты публичного правосознания. Различие ясно; и если оно кому-нибудь все-таки не ясно, то это только означает, что он совсем не представляет себе основной природы монархического правосознания.
Читать дальше

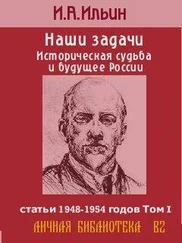
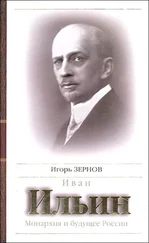

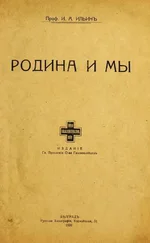

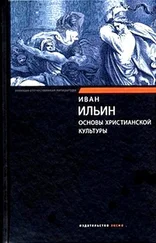

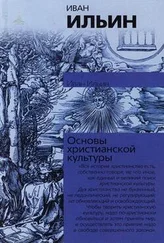
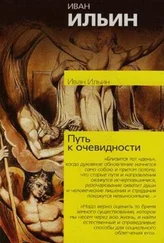

![Иван Ильин - Национал-социализм - 1. Новый дух [дореформенная орфография]](/books/403407/ivan-ilin-nacional-thumb.webp)