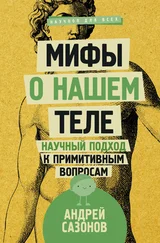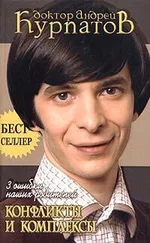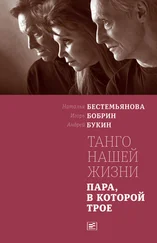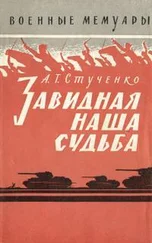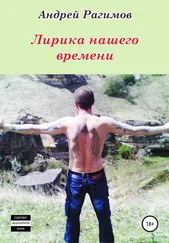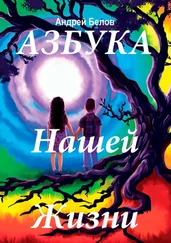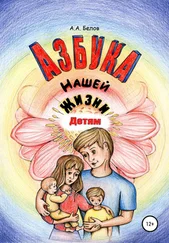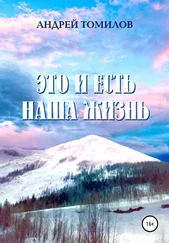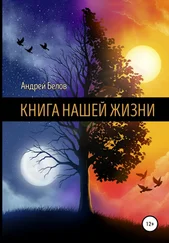Разве не очевидно, что главная движущая сила роста заключена именно в бегстве от всеобщего, которое и стимулирует легко распространяющиеся неравенство. Вот то, что Иван Иллич назвал "модернизация нищеты". Как только массы находят возможность получить то, что было привилегией элиты, все это (степень бакалавра, машина, телевизор) обесценивается. Порог нищеты повышается на одну отметку: создаются новые привилегии, недоступные массам. Непрерывно воссоздавая редкость (rarete) с целью воссоздать неравенство и иерархию, капиталистическое общество порождает больше неудовлетворённых потребностей, чем удовлетворяет их. "Норма роста фрустрации (разочарования- прим ред) легко превышает рост производства" (Иллич).
Пока мы будем рассуждать в рамках этой логики, которой придерживается цивилизации неравенства, рост будет выглядеть в глазах массы людей как обещание (все же целиком иллюзорное), что они однажды прекратят своё "полу-привилегированное" существование. А не-рост — как потребление в качестве безнадёжных посредственностей.
Итак, надо атаковать не рост, а укрепляемую им мистификацию, динамику растущих и всегда обманчивых потребностей, на которых рост держится. Надо атаковать соревнование, на которое экономический рост толкает людей, заставляя каждого из них стремиться возвыситься над другими.
Современное общество могло бы выбрать себе такой девиз: "То, что является благом для всех — ничего не стоит. Тебя будут уважать лишь в том случае, если у тебя есть нечто "лучшее", чем у других". Итак, чтобы порвать с идеологией роста, надо утверждать противоположное: "Тебя достойно лишь то, что является благом для всех. Только то заслуживает быть произведённым, что ни для кого не является привилегией и никого не унижает. Мы можем быть счастливы с меньшим изобилием, ибо в обществе без привилегий не будет бедных".
Попытаемся представить себе общество, основанное на этом. Продукция из действительно прочных тканей, обувь, сохраняющаяся годами, машины, лёгкие в починке и способные функционировать в течение века — все это можно представить в пределах техники и науки, также как и широкое развитие общественных служб (транспорт, прачечные и т. д.) освобождающих людей от покупок дорогих, хрупких и пожирающих энергию машин.
Представьте себе в каждом коллективном доме: прекрасно оснащенную мастерскую для поделок, прачечную-автомат с воздушной сушкой и глажением, и будете ли вы тогда по-прежнему нуждаться в вашем индивидуальном оборудовании? Станете ли вы торчать в пробках на дорогах, если есть удобный общественный транспорт, стоянки для велосипедов и мопедов на площади, плотная транспортная сеть, общая и для городов и для пригородов?
Представьте себе также централизованно планируемую крупную промышленность, выпускающую только необходимое: четыре или пять моделей прочной обуви и одежды, три модели вместительных и видоизменяемых машин, необходимых для общественных нужд. (Андре Горц полагал, что централизованное управление промышленность будет осуществляться на основе планов, составленных рабочими советами. Поскольку число промышленных товаров резко сократится, индустриальное производство окажется более управляемым, чем сегодня. — прим. ред.) Это невозможно в ориентированной на непрерывный рост капиталистической экономике? Да. Это вызвало бы массовую безработицу? Нет. Потому что рабочая неделя занимала бы двадцать часов, оставляя возможность менять жизнь по своему усмотрению. Все было бы однообразным и серым? Нет — вообразите вот что:
Каждый квартал, каждая коммуна располагают открытыми день и ночь мастерскими, оснащенными всем, что может оказаться полезным, включая машины. Жители кварталов индивидуально, коллективно или группами изготовляли бы различные вещи для себя, а не для рынка, согласно своим вкусам и желаниям. Так как они работали бы только двадцать часов в неделю (а может быть и меньше), взрослые могли бы все время учиться тому, что дети изучали бы в начальной школе: работе с тканью, деревом, металлами, работе электрика, механике, керамике, агрокультуре…
Это утопия? Это может стать программой. Ибо эта "утопия" соответствует наиболее прогрессивной и не ложной форме социализма. То есть общества без бюрократии, общества, где рынок отмирает, где всего всем хватает и где люди индивидуально и коллективно свободны формировать свою жизнь, выбирать то, что они хотят делать и иметь больше необходимого. Общества, где "свободное развитие всех станет целью и условием свободного развития каждого" (Маркс).

![Андрей Сазонов - [Не]правда о нашем теле. Заблуждения, в которые мы верим](/books/25992/andrej-sazonov-ne-pravda-o-nashem-tele-zabluzhdeni-thumb.webp)