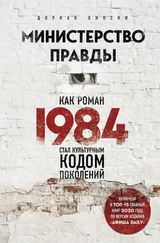Наша книга — первая в серии книг о советской цензуре, которая, следует надеяться, появится в свое время. Посвящена она первым двум «актам» драматической истории беспощадного подавления мысли и печатного слова. Время действия первого — октябрь 1917 — июнь 1922; второго — июнь 1922–1929 гг. Соответственно им посвящены первая и вторая части книги. Учитывая особенно настороженное и подозрительное отношение Главлита и других надзирающих инстанций к художественной литературе, автор счел нужным выделить историю преследования ее в эти годы в отдельную, третью, часть. В ней читатель найдет сведения о запрещенных или подвергшихся иным репрессиям рукописях и опубликованных книгах писателей, как русских, гак и зарубежных. Особое внимание здесь уделено цензурной политике в отношении писателей-«попутчиков» и эмигрантов.
Читатель, видимо, обратит внимание на то, что в книге в основном использованы документы из Центрального государственного архива литературы и искусства в С.-Петербурге, но произошло это вовсе не потому, что автор живет в этом городе. Им обследованы многие архивы Москвы, что дало в ряде случаев положительные результаты. Но непосредственно архивный фонд Главлита с 1922 по 1937 гг., по уверениям архивистов и даже согласно официальной справке бывшего Главлита, утерян. Автор и его коллеги пытались выяснить обстоятельства этой загадочной утраты, поскольку в нее трудно поверить, в бывшем КГБ СССР, но безрезультатно: ответ тот же — документы утеряны.
В целях удобства пользования книгой и сокращения ее объема, ссылки на документы из наиболее полно обследованных автором архивов помещены непосредственно в тексте, сразу же после их цитирования. Наиболее полно обследован первый из указанных далее архивов, фонд Гублита которого хранит главлитовские циркуляры, предписания, инструкции, отчеты и т. п., что позволяет на материале Петрограда — Ленинграда 20-х годов реконструировать механизм и средства цензурного контроля, общие для всей страны. Далее приводятся условные номера архивов:
I — Центральный государственный архив литературы и искусства в С.-Петербурге.
II — Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ — бывший Центральный государственный архив Октябрьской революции и соцстроительства).
III — Центральный государственный архив в С.-Петербурге.
IV — Центральный государственный архив РСФСР (Москва).
V — Архив Академии наук (Москва).
VI — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
VII — Центральный государственный архив историко-политических документов в С.-Петербурге (бывший Ленинградский партархив).
Например: I — ф. 31, оп. 2, д. 14, л. 8 — что означает: Центральный гос. архив литературы и искусства в С.-Петербурге, фонд 31, опись 2, дело 14, лист дела 8.
Ссылки на документы из иных архивов и опубликованные источники приводятся в примечаниях к разделам и главам в конце книги.
ЧАСТЬ I. ОТ НЕОЛИТА ДО ГЛАВЛИТА
Читая курс истории рукописной и печатной книги «будущим библиотекарям и библиографам, я, как и каж дый, впрочем, преподаватель, сразу же старался внушить студентам почтение к изучаемому предмету, граничащее с чувством почти мистического ужаса перед его необъятным временным охватом. Уже на первой лекции, представляя первый, так называемый «досоветский» период в истории книги, я говорил примерно в таком духе: если считать первыми дошедшими до нас книгами иероглифические папирусные свитки Древнего Египта и глиняные клинописные таблички Ассиро-Вавилонии, относящиеся к периоду позднего неолита, то эта эпоха охватывает по крайней мере 6 тысячелетий. Иногда я добавляю: «Если можно так сказать — от позднего неолита до раннего Главлита». Но, если строго говорить, я все-таки не совсем был точен, поскольку Главлит (Главное управление по делам литературы и издательств) был создан не сразу же после октябрьского переворота, а спустя пять лет — 6 июня 1922 г.
С каким же результатом подошла отечественная печать— с точки зрения ее цензурно-правового положения— к октябрю 1917 г.? В самом кратком и обобщенном виде мы и ответим на этот вопрос в «Прологе», для «экспозиции действия»: это позволит лучше понять, что сближало советскую цензуру с дореволюционной. Литература по истории так называемой «царской» цензуры огромна 1. Показательно, что сам монархический режим в определенные периоды дозволял писать о ней (в отличие от нашего, запрещавшего, как мы выяснили, время от времени писать работы по истории цензуры даже свергнутого режима). Уже в 1892 г. вышел капитальный труд А. М. Скабичевского «Очерки историирусской цензуры» (1700–1863), изданный Ф. Ф. Павленковым. В дальнейшем интервал между выходом труда и освещаемым периодом в истории цензуры все более и более сокращается, пока, начиная с 1905 г., дозволено писать уже о современном положении цензуры и такие работы выходят, в сущности, синхронно с описываемыми в них событиями, например, работа В. Розенберга и В. Якушкина «Русская печать и цензура в прошлом и настоящем» (М., 1905).
Читать дальше
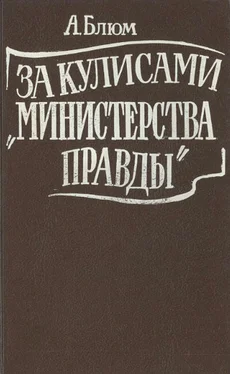
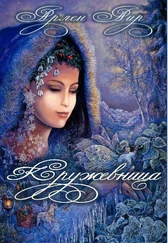
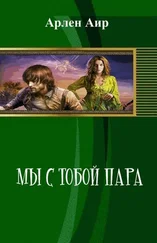

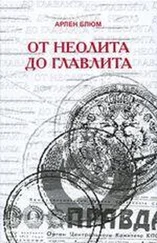
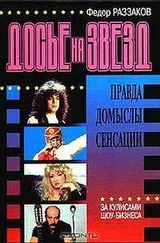
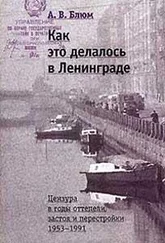
![Арлен Аир - Под светом трех лун. Новые боги [СИ]](/books/428395/arlen-air-pod-svetom-treh-lun-novye-bogi-si-thumb.webp)
![Арлен Аир - Под светом трёх лун [СИ]](/books/428396/arlen-air-pod-svetom-treh-lun-si-thumb.webp)