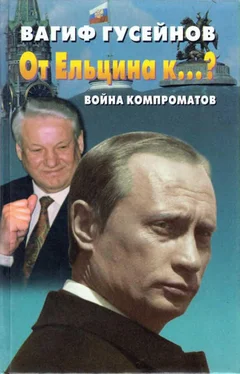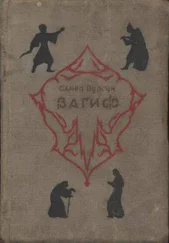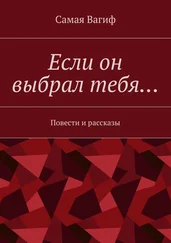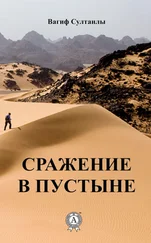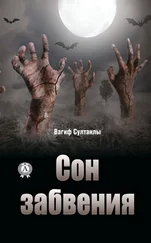В свете обрушившихся на головы бедных обывателей сногсшибательных сведений о коррупции в верхних эшелонах власти, по-новому воспринимался и затяжной конфликт с отстранением от должности Генерального прокурора Ю. Скуратова. Все чаще задавался вопрос: его «дело» — элемент политической борьбы или столкновение беззакония с законностью?
Правы, наверное, те, кто говорил о наличии в данном случае и того, и другого факторов. Аргументов в пользу того, что Ю. Скуратов был отстранен от должности, чтобы затормозить расследования фактов коррупции в высших эшелонах российской власти, несомненно, было больше, чем доводов о стремлении Кремля иметь на посту Генпрокурора кристально честного человека. Если не исходить из нигилизма, отчетливо выраженные позиции судов (Хамовнического окружного суда и Мосгорсуда), Совета Федерации, трижды (!) в 1999 году отклонявшего требования президента о снятии Ю. Скуратова с должности, мнение общественности свидетельствовало о том, что любым обоснованным подозрениям о противозаконной деятельности высокопоставленных должностных лиц необходимо давать правовую оценку.
Если суммировать реакцию на Западе на скандал вокруг неутверждения Советом Федерации отставки Ю. Скуратова, то следует в первую очередь выделить следующие суждения и оценки.
Смакование обстоятельств появления компрометирующих Генерального прокурора России материалов характерно, прежде всего, для зарубежной бульварной прессы, которая подхватывала попытки перевода проблемы именно в эту плоскость в ряде отечественных СМИ.
Серьезные же западные наблюдатели отмечали в первую очередь бурное развитие в этой связи поистине глубоких процессов в политической жизни России с далеко идущими последствиями. Прежде всего, отмечалось изменение баланса сил не в пользу президента, растущая нестабильность обстановки и малая практическая значимость разрабатываемого соглашения о политическом согласии.
Корни углублявшегося кризиса власти, в котором «дело Ю. Скуратова» стало лишь одним из наиболее звучных и скандальных эпизодов, по общему мнению, были гораздо глубже. Речь шла о раздиравших политический истеблишмент противоречиях, невозможности принятия и реализации взаимоустраивающих элитные круги решений, неуправляемости страны, параличе государственности.
Характерно, что, несмотря на констатацию выгодности такого положения для левой оппозиции, комментариев в поддержку позиции Б. Ельцина как гаранта Конституции на Западе практически не было. Настроения общественного мнения на Западе, которое ради «недопущения коммунистического реванша» готово были прощать Кремлю все, даже незаконность действий с мудреными оправданиями их незаконности, но «легитимности», изменились. Политиков и население за рубежом больше тревожила непредсказуемость дальнейшего развития обстановки в России и вероятность экономического коллапса и социальных потрясений.
Несогласие Совета Федерации с решением Б. Ельцина об отставке Генерального прокурора рассматривалось как серьезное поражение президента не по данному факту, а в целом. Происходила консолидация антиельцинских сил, строго говоря, не имевшая идеологической или партийно-политической подоплеки. По сути, признавалось наступление завершающей фазы президентского правления с безграничными полномочиями. Б. Ельцин за последние полтора года, после затеянной правительственной чехарды и ставшей для всех очевидной потерей трудоспособности превратился в номинального главу государства, для которого было затруднительно осуществлять даже церемониальные функции.
Кремлевские чиновники судорожно искали выход из положения, чтобы как-то поправить пошатнувшееся реноме президента, рассматривая тяжбу с Советом Федерации не просто как его неудачу (они бывали и ранее, как, например, с многократным неутверждением кандидатуры А. Ильюшенко на пост Генерального прокурора), а как оскорбительный вызов.
Несомненно, что Б. Ельцин хотел бы более жестких и самостоятельных заявлений Е. Примакова, С. Степашина, В. Путина в пользу своей позиции, однако премьеры на такие шаги не пошли. Причины виделись аналитикам в том, что в отличие от импульсивного Б. Ельцина, любящего эффектные громкие шаги, Е. Примаков являлся мастером тонкой игры и умел терпеть в ожидании своего часа. Кое-чему следующие премьер-министры у него в этом отношении научились. К тому же у всех их был личный счет к Б. Березовскому, замешанному в скандальной интриге вокруг Генерального прокурора.
Читать дальше