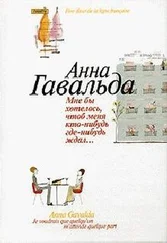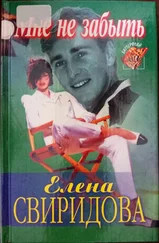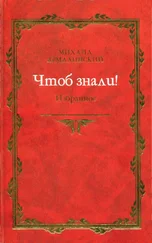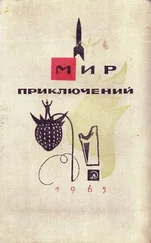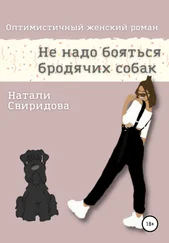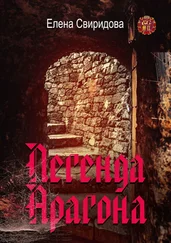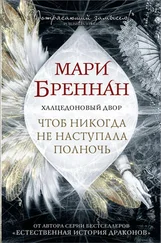Следует отметить необычную авторскую позицию Шаламова. Откуда, с какой точки смотрит Рассказчик, описывая плацдарм, где развиваются события? Писатель Шаламов не соглядатай, — он всегда внутри круга людей, которые пьют-едят-валят лес, умирают и оживают, в его тощее тело входит носок сапога конвоира. Рассказчик никогда не говорит с читателем на его — читателя — языке. Он говорит на своем, о своем, и выступает в образе не писателя, а заключенного. Голодного, изможденного, страдающего, колеблющегося на границе жизни и смерти. Но заключенный Шаламова не уголовник, потому и речь его не имеет даже легкого налета тюремного сленга. Он образованный, интеллигентный человек в нечеловеческих условиях. Именно туда — в зону, в барак, на лесоповал, уводит читателя зэка Шаламов. И это серьезная трудность, с которой предстоит столкнуться читателю, когда его силой втаскивают на нары. И оставляя ему возможность быть созерцателем, лишают права на выход из круга. Сиди пока, и когда до тебя черед дойдет — неизвестно. Но дойдет, не сомневайся. Следующим можешь быть ты… Потому так страшно слышать слова Шаламова о том, что «Любой расстрел тридцать седьмого может быть повторен». Живые люди так не пишут. Живым свойственно надеяться. Шаламов лишает надежды даже читателя. Такое глубокое погружение вовнутрь среды обитания литературных героев требуется Шаламову для того, чтобы потом поднять наверх, с Колымы, из ада, посвященного читателя. Эпоха писателя-туриста Шаламовым закончена навсегда и для всех. Закончена традиция Орфической литературы. Шаламов внятно объясняет, что он — не Орфей, спустившийся в ад, а Плутон, поднявшийся из Ада. Таких свидетельских показаний русская и мировая литература не видела до Шаламова. Язык его предельно ясен, вычурности отсутствуют, пейзажей, портретов, красот — нет. Есть ад, в котором ты жив. Это большая странность для сына священника: православие обещало ад и рай после жизни, после смерти… Но всякий раз, употребляя слово «ад», которое возникает при чтении прозы, следует помнить, что сравнение Колымы и Ада некорректно: Колыма — это рукотворный мир, построенный одними людьми для других на земле, а ад — подземная обитель, устроенная Богом. Философ Михаил Геллер писал в предисловии к первому изданию Шаламова за границей: «Подземный мир, о котором рассказывает В. Шаламов, ассоциируется с адом. Да и сам Шаламов пишет: «Возвращался из ада» («Поезд»). Ибо кажется, что страшнее ада ничего быть не может. Колыма не была адом. Во всяком случае, не была адом в его религиозном значении, в том смысле, какой дала ему литература. В аду наказывают грешников, в аду мучаются виновные. Ад — торжество справедливости. Колыма — торжество абсолютного зла... Колыма — близнец гитлеровских лагерей смерти. Но и от них она отличается. Убиваемый гитлеровцами знал, что он умирает потому, что был противником нацистского режима, или евреем, или русским военнопленным. Тот, кто умирал в колымских — и во всех других советских — лагерях, умирал недоумевая. И отбывал срок — недоумевая». Если Колыма и Ад, то особый: без Бога, без грешников, построенный живыми для живых. Но не ад Колымы является предметом исследования Шаламова, а живой человек в аду. Шаламов свидетельствует собственным страшным опытом, что неискаженный человек в искаженном мире способен не только выжить, выстоять, но и сохранить верность себе. Он открывает лагерь как еще одну среду обитания человека. Так до начала освоения космоса жил человек на земле и на море, а после Гагарина стал жить еще и в воздухе. «Я пишу о лагере не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвилл о море. Мои рассказы — это, в сущности, советы человеку, как держать себя в толпе… Не только левее левых, но и подлиннее подлинных. Чтобы кровь была настоящей, безымянной», — отмечает Шаламов в записных книжках.
Напомню, что никто из создателей советского ГУЛага никогда не покаялся в содеянном, не расследованы преступления, совершенные советской властью против собственного народа, не запрещена партия, построившая ГУЛаг. Проза Шаламова — достаточное основание для обвинительного заключения. В Нюрнберге хватило свидетельств пожиже для того, чтобы повесить лидеров нацистской партии. Приведу свидетельство, близкое мне в оценке творчества Варлама Шаламова. Лев Тимофеев, философ, писатель, отсидевший в конце двадцатого века свой срок, вспоминал, как открыл для себя Шаламова. «Говорить о прозе Варлама Шаламова — значит говорить о художественном и философском смысле небытия. О смерти как о композиционной основе произведения. Об эстетике распада, разложения, разъятия... Казалось бы, что нового: и прежде, до Шаламова, смерть, её угроза, ожидание и приближение часто бывали главной двигательной силой сюжета, а сам факт смерти служил развязкой... Но в «Колымских рассказах» — иначе. Никаких угроз, никакого ожидания! Здесь смерть, небытие и есть тот художественный мир, в котором привычно разворачивается сюжет. Факт же смерти предшествует началу сюжета. Грань между жизнью и смертью навсегда пройдена персонажами ещё до того момента, когда мы раскрыли книгу и, раскрыв, тем самым запустили часы, отсчитывающие художественное время. Самоё художественное время здесь — время небытия, и эта особенность едва ли не главная в писательской манере Шаламова... Но тут сразу усомнимся: вправе ли мы разбираться именно в художественной манере писателя, чьи сочинения читаются ныне, прежде всего, как исторический документ? Нет ли в этом кощунственного равнодушия к реальным судьбам реальных людей? А о реальности судеб и ситуаций, о документальной подоплёке «Колымских рассказов» Шаламов говорил неоднократно. Да и не сказал бы — документальная основа и так очевидна. Так не надо ли, прежде всего, напомнить о страданиях узников сталинских лагерей, о преступлениях палачей, иные из них ещё, поди, живы, — и жертвы взывают к отмщенью... Мы же к Шаламовским текстам — с анализом, собираемся толковать о творческой манере, о художественных открытиях. И, скажем сразу, не только об открытиях, но и о некоторых эстетических и нравственных проблемах литературы... Именно на этом, Шаламовском, лагерном, ещё кровоточащем материале — имеем ли право? Можно ли анализировать братскую могилу?»
Читать дальше