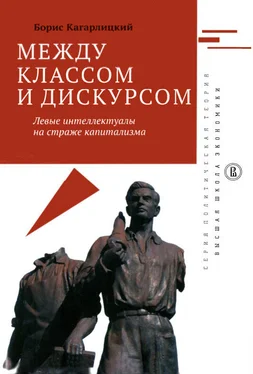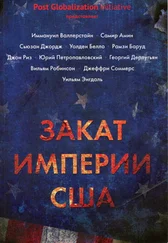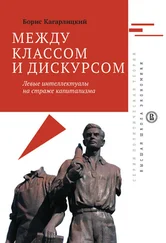В таких условиях «антирасистская» пропаганда левых не только оказывается совершенно неэффективной, но своей явной неадекватностью еще и стимулирует рост правых, ксенофобских настроений в обществе, особенно — в рабочем классе, на собственной шкуре обнаруживающем неадекватность политкорректного дискурса. В свою очередь, объявляя «расистом», «ксенофобом» или «фашистом» всякого, кто задает неудобные вопросы относительно миграции, блокируя серьезную дискуссию о путях и масштабах интеграции, левые не только уступают поле крайне правым, но и легитимируют настоящий фашизм и расизм, поскольку в рамках леволиберального подхода нет никакой разницы между агрессивным погромщиком и мирным обывателем, сомневающимся в необходимости отдавать школу, где учились его дети, под общежитие для беженцев. Отказываясь слушать подобных людей, не признавая не только законности их сомнений, но даже их нрава задавать вопросы и предлагать взаимоудобное компромиссное решение, леволиберальная общественность толкает обывателей в объятия правых радикалов, которые остаются единственными, кто готов говорить на подобные темы.
Впрочем, в плане расистских предрассудков у самих левых тоже далеко не все в порядке.
Отношение либеральных левых к мигрантам и беженцам можно определить как compassionate racism — покровительственно-сочувственный расизм, подогреваемый признанием вины за прошлые преступления и несправедливости собственной нации. Это никак не относится ни к классовому анализу, ни к социально-историческому и критическому мышлению. В соответствии с общей логикой политкорректного дискурса беженцы и мигранты предстают как однородная обезличенная страдающая масса, не имеющая вообще никаких других характеристик — индивидуальных, социальных, культурных, психологических. У них нет никаких проблем, кроме тех, что спровоцированы недостаточно сочувственным и недостаточно покровительственным отношением государства и местного общества. Тот факт, что это масса, пусть и вынужденно, но деклассированная, не только полностью исчезает из поля зрения либеральных гуманистов, но и не подлежит фиксации или осмыслению.
Увы, лишив людей каких-либо человеческих и социальных качеств, мы не только не можем понять мотивы их действий и происходящие с ними процессы, но не можем и эффективно помочь им, не в состоянии выработать практическую стратегию интеграции и адаптации для миллионов людей, перебравшихся в Европу на протяжении первых двух десятилетий XXI в. Что, впрочем, и не входит в задачу левых либералов. Рассуждая о помощи беженцам, они на самом деле пытаются помочь самим себе, решая собственные моральные и психологические проблемы.
Ответ на кризис, разумеется, состоит не в том, чтобы по совету правых закрыть границы и выдворить из Европы уже находящихся там мигрантов. Но реальная помощь приезжающим людям технически невозможна, если процесс никак не регулируется, если не проводится соответствующая социальная и культурная политика, которая должна быть обеспечена ресурсами и кадрами, что, в свою очередь, означает необходимость ограничения потока, распределения приезжих по группам, под чинения их определенным требованиям, нормам и дисциплине. Данные ограничения необходимы в интересах самих прибывающих людей, которым должны быть созданы реально работающие каналы социальной интеграции.
Альтернативой расизму в условиях капитализма является не борьба за специфические «права мигрантов», а работа по интеграции новоприбывших в существующие рабочие организации, борьба за предоставление им равной оплаты и равных прав в качестве наемных работников, а главное — за создание для них хороших рабочих мест, предполагающих не только приличную оплату, но и высокие требования, а также жесткую производственную дисциплину. Точно так же надо не защищать «права нелегалов», а добиваться общей и полной легализации всего присутствующего на территории населения, если надо, то и принудительной. Такие действия, в случае успеха, резко сократят заинтересованность капитала в наращивании миграционных потоков, а это, в свою очередь, приведет к тому, что и сами эти потоки сократятся до масштабов объективно определяемых политической ситуацией на местах [26] Примером обратного может быть ситуация с «сирийскими беженцами» в 2016 г., когда в Западную Европу хлынул поток людей из самых разных стран, никак не затронутых войной. Значительная часть самих прибывших в Европу сирийцев приезжала из районов, не пострадавших от военных действий. Одним из последствий стал постепенно разворачивающийся конфликт между «настоящими» и «ненастоящими» сирийцами. Принципиальный отказ от фильтрации прибывающих беженцев способствовал тому, что средства были потрачены на людей, не имеющих оснований требовать помощи, а те, кто действительно нуждался в ней, не получили поддержку в достаточных масштабах.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу