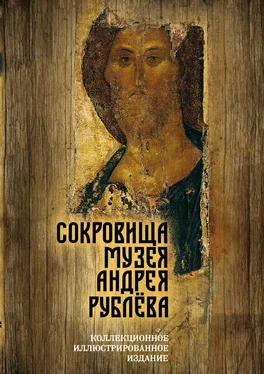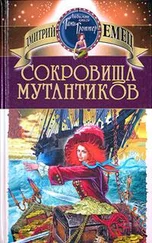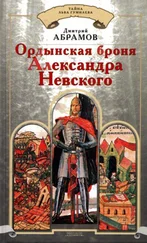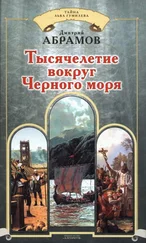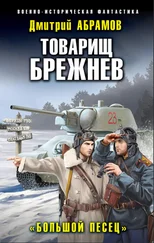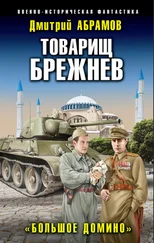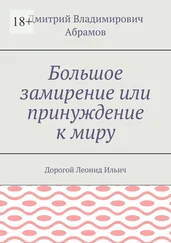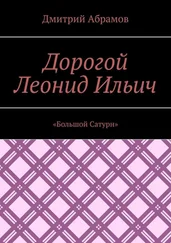Положение о государственном историко-архитектурном заповеднике «Андроников монастырь», разработанное комитетом по делам архитектуры в 1950 году, в основном, отражало историко-архитектурные аспекты работы формирующегося музея, за исключением отдельного пункта, отражающего задачи «обобщения опыта и музейного показа примеров реставрации памятников древней монументальной живописи…».
* * *
В то время музей не имел ещё ни одного подлинного иконописного произведения, артефакта или памятника, кроме самого здания белокаменного собора с имеющимися в нём фрагментами фресок. По поводу организации музея имени Андрея Рублёва выдающийся деятель отечественной культуры и искусства Игорь Эммануилович Грабарь 27 марта 1952 года на заседании в Управлении по делам архитектуры высказался следующим образом: «Я полагаю, что создание такого музея необходимо… – такого музея нет и он должен быть создан… Сначала надо привести в порядок архитектурную часть этого места, нужно создать помещения, в которых этот музей может быть расположен. Надо это сделать. А проводить организационную работу музея надо пока исподволь, на бумаге: подсчитывать произведения древнерусского искусства путём экспедиций, собирать будущий материал… Даже такое собирание… такая регистрация – это уже большое дело. Мы пока имеем только 5–6 памятников (имеются ввиду принадлежащие лично самому Рублёву). А это должно стать ежедневным и ежегодным делом этого музея… Нужно иметь ввиду и другие виды искусства: шитье, резьбу, ткани, изделия из металла, кости. Это имеется в большом количестве и это нужно учитывать. Также надо иметь ввиду необходимость реставрации, приведение экспонатов в порядок, организацию их – всё это займет много лет. А постепенное освоение этой задачи нужно начать с помещения, где будет расположен этот музей. Но дело реставрации помещения совершенно не зависит ни от состава музея, ни от директора музея. Это совершенно особое задание, которое только органы архитектуры Моссовета и строительные инстанции могут выполнить, получив соответствующую директиву». Таким образом, со слов И.Э. Грабаря было понятно, что музей со штатом в 5 единиц, при полном отсутствии охраны и изолированного помещения, приспособленного для хранения памятников искусства, не мог взять на себя ответственность за их сохранность. Присутствие в здании белокаменного собора отделов Управления по делам архитектуры становилось абсолютно недопустимо. Музей мог проводить только подготовительную работу по выявлению памятников и проведение выставочной и научной работы, что по существу являлось разработкой методов показа и плана сбора материалов. Для того, чтобы музей был поставлен в надлежащие условия и приступил к сбору подлинных произведений, его в первую очередь следовало передать в систему Министерства культуры СССР, где необходимо было урегулировать вопрос о праве музея обследовать и собирать для своей экспозиции подходящие материалы из фондов краеведческих и художественных музеев древних городов, с памятников архитектуры, находящихся на государственном хранении.
Широкий масштаб работы по сбору памятников также мог быть организован только в системе министерства культуры, так как подобная работа могла проводиться с привлечением всех имеющихся кадров опытных специалистов – искусствоведов и реставраторов, умеющих разбираться в памятниках. Кадры таких специалистов были в те годы крайне ограничены – от 20 до 25 человек в Москве и Ленинграде. В регионах таких специалистов были только единицы. Потому, учитывая будущие масштабы изучения, показа и популяризации древнерусского искусства для подсобных работ в помощь опытным специалистам следовало привлекать к этой работе студенчество университета, художественных вузов. Для «живой работы с памятниками», необходимо было готовить новые кадры музейных работников, искусствоведов реставраторов и копировщиков. Было необходимо торопиться с организацией такой работы, поскольку каждый год промедления стоил гибели сотен художественно-исторических памятников, утрату которых будущие поколения не простили бы специалистам, взявшимся за это дело. Для должной организации работ по сбору, хранению и реставрации памятников, а также для возможности организаций выставок на специальные темы (например, «Выставка произведений древнерусской монументальной живописи из фрагментов фресок и копий», «Выставка из произведений московской школы живописи» и т. д.) необходимо было позаимствовать произведения древнерусского искусства, находящиеся в фондах других государственных музеев. Таковыми являлись: Государственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Русский музей, Ярославский и Вологодский краеведческие музеи и ряд других. Необходимо было, наконец, приступить к реализации постановления о превращении музея имени Андрея Рублёва в «музей-заповедник». Этот вопрос надолго повис в воздухе. Территория, объявленная заповедником имени Андрея Рублёва, находилась в ведении коммунального домоуправления и заселена жильцами. Вопреки запрещению она продолжала застраиваться организациями, не имеющими никакого права размещаться в этих стенах. Это была экспериментально-строительная площадка Академии архитектуры СССР, приспособившая здания в северной части заповедника под слесарные, столярные мастерские и гараж. Здание бывшей монастырской покойницкой площадка использовала под свою контору.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу